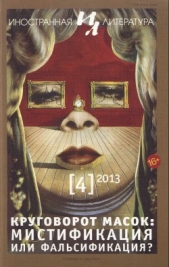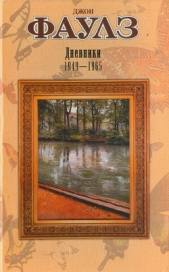Джон Фаулз. Дневники (1965-1972)

Джон Фаулз. Дневники (1965-1972) читать книгу онлайн
В рубрике «Документальная проза» — «Дневники» (1965–1972) Джона Фаулза (1926–2005) с предисловием английского историка и киноведа Чарльза Дрейзина (1960) и в переводе Валерии Бернацкой. Дневники — по самой своей природе очень непростодушный жанр, но интонация этих записей вызывает доверие. Впечатляет и наблюдательность автора: «Как и у всех кинозвезд, в ней чувствуешь под наигранной сердечностью ледяное нутро. Я хочу сказать, что эта сердечность сродни ее косметике». Иностранная литература, 2016 № 07, 08
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А в некоторых интервью, данных в Штатах, — чудовищное извращение моих слов. Слава Богу, никто не обольщается и не ищет там правды.
14 февраля
Утро спокойное, как смерть, но смерть прекрасная, парящая… дымка на море, первые, нежные солнечные лучи, утро — как возрождение. Я был у дамбы… И вдруг в свете, озаряющем море, раздался нежный шелест крыльев, легкое посвистывание, словно точили большую косу, звук усиливался, перемещаясь на запад. На какое-то время он, казалось, заполнил все небо. Я было подумал, что это работает какая-то хитроумная машина, но звук отдалялся от Лайма, устремляясь в мою сторону. Лебеди… Звук странным образом усиливался. Самое удивительное, что их самих я так и не увидел, хотя захватил с собой бинокль, да и видимость была не меньше двух милей. Только спокойное свинцовое море и шум могучих крыльев.
16 февраля
По контрасту со спокойной погодой — бурные дни с Элиз. Она ненавидит «тишину, простор, пустоту» — те вещи, которые, увы, люблю я. Хотя не могу сказать, чтобы весной здесь была «пустота». Земля торопится в обильное лето. Дом тоже плох: «холодный, неуютный, уродливый». Мне нравится шум от центрального отопления, а ее он раздражает. Она пошла на прием к врачу в Аплайме, очаровательному старичку, и получила от него такой же очаровательный, старомодный совет: больше гулять и «участвовать в общественной жизни». Последнее — современный вариант прежней веры в силу улыбки: просыпайся с улыбкой; найди удовлетворение в сознании исполненного долга — совершенно неподходящий совет. Я отношу ее беспокойство и неприятие этого места к мысли о расставании, преследующей Элиз в снах. Ее позиция в целом основана на домысле, что будущее враждебно настоящему. Раньше все было лучше. Еще она помешана на эффективности и порядке — своеобразный идеализм, порожденный неполноценным образованием, верой в некое вымышленное место, где все машины работают безукоризненно, никто из работников не допускает ошибок, все доведено до совершенства.
Она обвиняет меня в том, что в своем дневнике я не пишу о ней ничего «приятного». Но в мыслях я с трудом отделяю ее личность от своей. Попытка писать об Элиз как о «ней» — почти так же трудна, как писать о себе как о «нем». «Этим утром он выглядел великолепно». «Мне нравится, когда он смеется». «Он состряпал вкусный обед» — разве скажешь такое?
Любовь нуждается в собственной теологии. У нас есть потребность в выражениях типа «допущение неделимости», в категории априорных утверждений и чистых концепций, которым верят или не верят люди.
Однажды во время ее очередного бунта я сказал, что жить здесь — все равно что жить в поэме. Так оно и есть. Поэма, часослов, собрание всех весен, что были раньше и будут впредь. Брожу по лугам в состоянии транса. Физически чувствую себя здесь намного здоровее и более спонтанно, остро переживаю все происходящее. Такое было со мною в школьные годы, но впоследствии эта непосредственность была испорчена, замутнена чередой ложных представлений о важности имен, псевдонаучной галиматьей, занимавшей умы юношества двадцатого века. Здесь же в голове рождаются поэтические строки, но они не складываются в стихи — это похоже на Грецию, где существование живое, оно заполнено чистой поэзией жизни, непрерывным потоком подлинных поэтических впечатлений. Коноплянки, не покидающие мои владения (ведь садовник из меня никудышный, и сад весьма запущен), издают красивые трели в духе Стравинского, а их крики на лету — как звуки старинных китайских арф; первые бледные крупные фиалки на большом уступе по дороге к морю; заросли мускатницы в лесу; великолепные совы, навещающие нас по ночам; стайка куликов на перламутровой поверхности моря — не менее пятидесяти птиц разных цветов: черные, белые, кораллово-красные; черно-серые бездны в настороженных глазах кролика — все это чистая поэзия на языке природы, и, если я начинаю писать об этом на своем языке, получается не собственное творчество, а просто перевод.
22 апреля
У нас гостит Анна[14]. Она создает проблемы, и ее требования довольно трудно удовлетворить. Играя на своем двусмысленном положении, она старается добиться особых прав у Элиз; основное требование — Элиз должна играть роль интеллигентной подружки, которой, по всей видимости, ей недостает в Лондоне. Там ее окружают одни «несчастненькие», и потому при встрече с начитанной и умной дочерью Чарли Гринберга она ощетинилась, как еж[15]. Элиз ее поддерживает: «Ребекка — самодовольная ханжа» и т. д. Возможно, это так, но привычным защитным механизмом у Анны становится бегство и ничто другое. Конечно, ее нельзя за это винить. Даже если забыть о ее прошлом, существует и настоящее: викторианский дух в Патни[16], где она то ли прислуга, то ли нянька при младших детях. Но Анне придется разобраться в себе — для ее же пользы. Ей необходимо научиться управлять эмоциями: своенравие равно свойственно и Элиз и Рою, а она его унаследовала. У Анны и Элиз — у обеих — предубеждение против Гринбергов, которые эмоционально черствы, зато умны и энергичны, они экстраверты и потому усиливают чувство неуверенности в интровертах. В Анне ощущаешь сильную и мучительную любовь-ненависть к своим одноклассникам, к экстравертам, к людям, вроде меня, — интровертам, которым повезло, хоть они и не экстраверты, то есть врагам в ее лагере. Элиз упрекает меня, говорит, что я не добр к ее дочери, не предупредителен, хотя я стараюсь, как могу, не впадая при этом в лживый, добродушно-панибратский тон, неискренность которого Анна сразу же заметит. Безумно трудно продвинуться в этом направлении: ведь обе шестнадцатилетние девушки не доверяют мне, как всякому взрослому человеку, странному существу, слоняющемуся по саду, полям, наблюдающему за птицами и собирающему цветы. Гринберги приехали уже после отъезда Анны, захватив с собой младшую дочь: бойкую, умную, не по годам развитую девочку, не погрязшую в собственных эмоциональных проблемах. Элиз неприятны ее усердие, бойкость, постоянные вопросы и странные паузы; возможно, и я бы так реагировал, но у нас она, как и ее родители, — словно порыв свежего ветра в душной комнате. Или в помещении без температуры и света. Так всегда: кто-то на солнце, а кто-то в тени.
25 апреля
В Лондоне. Работаем с Джоном Коном над сценарием «Волхва». Живем в «Вашингтоне» — жуткой гостинице для американских туристов на Керзон-стрит. Персонал состоит из несговорчивых иностранцев, выказывающих полное к тебе равнодушие. Погода превосходная, температура не опускается ниже двадцати градусов, мы задыхаемся от выхлопных газов, существуют и личные проблемы — я ненавижу город. Просыпаюсь по ночам от мужских ссор под окном, от рева автомобилей, проносящихся по улице, от диких пьяных криков. За последние шесть месяцев Лондон изменился (я тоже изменился, но тут речь идет не о субъективном), город помешан на наслаждении, на молодости, гнев божий прольется на этот город на равнине.
У Элиз в первый же день голова пошла кругом, она покрасила волосы хной, купила платье, которое совсем ей не идет, напоминая о временах, когда она еще работала, и это возвращение в прошлое взбудоражило нас обоих. Как будто одного Лондона мало…
«Волхв» появится в продаже второго мая. Обед с литературными редакторами и критиками, организованный «Кейп». Чувствовал себя словно конь на выгуле при конном заводе — его разглядывают и оценивают. Все были предельно вежливы, но за спиной говорилось разное. Никто так не далек от писателя, как литератор, пишущий о писателях; его простота (ее дает сам факт творчества) и их цинизм, их tout vu, tout lu[17].
У Бетсы Пейн[18] вновь трудности, ее жизнь пуста, она не хочет выходить из дома. Возможно, агорафобия — всего лишь метафора для обозначения внутренней пустоты. Их жизнь внешне кажется нормальной, но в ней много ставящей в тупик парадоксальности: при наличии почти всего необходимого их существование кажется мелким и несчастливым. Нам тоже это угрожало, и, хотя Элиз по сравнению с Бетсой кажется более живой и практичной, все же существует некий зловещий опознавательный знак: парашютист, прыгающий вторым, внимательно следит за тем, кто прыгает первым. И снова все беды от напряженной одержимости собой: собственная личность кажется абсолютно не связанной с внешними обстоятельствами. Тщательное рассматривание себя в зеркале — еще одна метафора отношений Элиз — Бетсы. Ни та ни другая не выносят любопытных глаз, внимания со стороны, которое может заставить их отвести глаза, отвлечь. Элиз утверждает, что я самый большой эгоцентрик, но есть разница между поглощенностью своим делом и поглощенностью собой: в первом случае объясняешь мир через себя, но живешь, считаясь с внешними причинами и целями, в то время как во втором случае ты сосредоточен только на себе и внешний мир попросту не существует. Я могу избавиться от оков отчаяния, переключившись на внешние предметы. А для сосредоточенного только на себе человеке ничего внешнего не существует — только он сам. Все равно что пытаться поднять себя собственными руками.