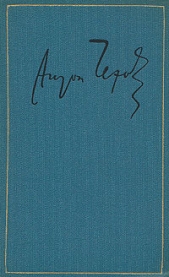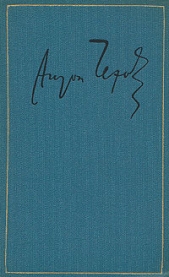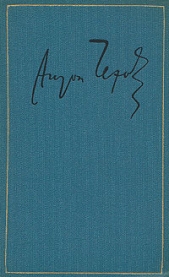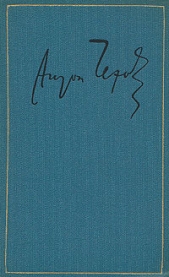Чехов. Жизнь «отдельного человека»
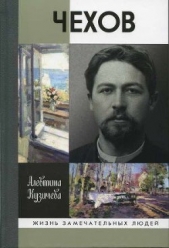
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот однажды свершилось: их, с подвернувшимся человеком, приехавшим из слободы, отпустили в гости. Они впервые увидели степь: «Мы с Антошей онемели от восторга, молчали и только переглядывались. <…> Отчего нельзя ехать по степи всю жизнь, до самой смерти, не зная ни забот, ни латыни, ни греческого…»
Потом они пережили ужасную грозу, ночь в еврейской корчме у добрых хозяев, спасших детей от простуды, встречу с дедушкой и бабушкой. Они показались старшему внуку неласковыми, грубыми, слишком уж деревенскими, а каникулы — скучными, тоскливыми: «Потом в течение всей жизни мы вспоминали о том, как гостили у дедушки и бабушки и как в те времена я был смешон и глуп. Не чванься я тогда тем, что я ученик пятого класса, многое было бы иначе и на многое мы посмотрели бы иными глазами. Может быть, и старики <…> показались бы нам иными, гораздо лучшими. Да они и на самом деле были лучше».
О другой поездке, в 1873 году, рассказал в своих мемуарах Михаил Павлович: «Мать, Евгения Яковлевна, конечно, напекла и наварила всякой снеди на дорогу. Наняли простого драгаля <…> устлали его дроги подушками, одеялами и ковром, и все семеро, не считая самого извозчика, уселись на дроги и поехали. <…> До Кринички добрались к вечеру, когда заходило солнце. <…> Не успели приехать и остановиться у ка-кого-то крестьянина, как Александр и Антон уже достали от-куда-то бредень и пошли на реку ловить рыбу. Поймали пять щучек и с полсотни раков. На следующий день мать сварила нам превосходный раковый суп. <…> Кузница, клуня, масса голубей, сад, а главное — простор и полная безответственность делали наше пребывание в Княжей счастливым».
Чехов тоже запомнил эти и другие степные поездки. Сохранил свое ощущение, оставшееся теплым и радостным: «Я <…> любил степь, и теперь в воспоминаниях она представляется мне очаровательной». Он просил знакомых поклониться степи, особенно в апреле, когда она «очень хороша». Говорил: «Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харцыза <…> вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен».
Годы спустя он мечтал «проехаться по степи и пожить там под открытым небом хотя одни сутки». Она снилась ему. Чехов вспоминал степь зримо, до мельчайших деталей: «В детстве, живя у дедушки в именье гр. Платова, я по целым дням от зари до зари должен был просиживать около паровика и записывать пуды и фунты вымолоченного зерна; свистки, шипенье и басовый, волчкообразный звук, к[ото]рый издается паровиком в разгар работы, скрип колес, ленивая походка волов, облака пыли, черные, потные лица полсотни человек — всё это врезалось в память, как „Отче наш“».
Чехов не забыл смешной эпизод тех лет: «Когда-то во времена оны, будучи учеником V класса, я попал в имение графа Платова в Донской области… Управляющий этим именьем Билибин, высокий брюнет, принял меня и угостил обедом. (Помню суп, засыпанный огурцами, начиненными раковой фаршью.) После обеда, по свойственной всем гимназистам благоглупости, я, сытый и обласканный, запрыгал за спиной Билибина и показал ему язык, не соображая того, что он стоял перед зеркалом и видел мой фортель… Час спустя прибежали сказать, что горит степь… Б[илибин] приказал подать коляску, и мы поехали…» Но сам пожар, наверняка страшный и губительный для степи, Чехов отчего-то не описал, поставил в письме многоточие.
Каждый из братьев вспоминал давно минувшее по-своему, вольно или невольно обнаруживая характер и душевные свойства. Александр устыдился своей тогдашней глупой заносчивости и скоропалительных заключений, но воспроизвел (словно и не прошло сорока лет) многочисленные отзывы окружающих о деде-«аспиде» и рассказы бабушки о том, как расправлялся Егор Михайлович с нею и сыновьями:
«Пришли раз соседи и говорят, будто бы Павло — ваш батько — с дерева яблоки покрал. А Павло вовсе и не крал, а покрали другие хлопцы. Егор Михайлович взяли кнут и хотят Павла лупцевать. Говорят: „снимай портки!“ А Павло, бедняжка, снимает штанишки, горько заплакал и начал креститься. Крестится и говорит: „Подкрепи меня, Господи! Безвинно страдаю!“ Я даже заплакала и стала молить: „Егор Михайлович, он не виноват“. А Егор Михайлович развернулись с правого плеча да как тарарахнут меня по лицу… Я — кубарем, а из носа кровь пошла… И Павла бедного до крови отлупцевали, а потом заставили триста поклонов отбухать.
Антоша и я невольно переглянулись: так вот откуда получили начало те сотни земных поклонов, к которым присуждал нас отец за разные проступки!.. Наследственность…»
Михаил в своих мемуарах ни словом не упомянул ни степь, ни бабушку. Вся поездка — это сюжет о злоключениях цилиндра. Рассказано с живописными деталями, увиденными будто вчера, а не шестьдесят лет назад: «Старший брат, Александр, клеил себе из сахарной бумаги шляпу с широкими полями, а брат Николай <…> добыл себе откуда-то складной цилиндр (шапокляк) и задумал ехать в нем. Добродушным насмешкам со стороны Антона не было конца. <…> И все время Николай сидел в цилиндре и, прищуря один глаз, терпеливо выслушивал от Антона насмешки. Николай немного косил с самого раннего детства и ходил, прищуриваясь на один глаз и склонив голову на плечо. Любивший всех вышучивать и давать всем названия Антон то и дело высмеивал его:
— Косой, дай покурить! Мордокривенко, у тебя есть табак? <…>
Антон вообще был из всех самым талантливым на выдумки, но и менее всех нас способным к ручному труду. Среди нас, его братьев, он был белоручка. Он устраивал лекции и сцены, кого-нибудь представлял или кому-нибудь подражал, но я никогда не видал его, как других братьев, за переплетным делом, за разборкой часов и вообще за каким-либо физическим трудом».
Таким ли на самом деле запомнил брата восьмилетний Михаил, «сладкий Миша», «шкворец», как называли его старшие братья за словоохотливость, за прирожденное умение расположить к себе папеньку и маменьку? Поэтому, а еще в силу малых лет и обстоятельств, на его долю в таганрогские годы не выпало ни торговли в лавке, ни спевок, ни хора. Или, может быть, в мемуарах Михаила Павловича, несмотря на оговорки, проступило его потаенное отношение к брату?
Это, вероятно, участь всех мемуаристов — рассказать о себе не менее, чем о том, о ком идет речь; не суметь скрыть подлинного отношения к тому или иному человеку из своего окружения. А порой и подчеркнуть свою неприязнь, сводя давние счеты или теша свое злосердечие. Фактологическая недостоверность и психологическая неточность многих мемуаров и воспоминаний общеизвестна.
Не будь семейной фотографии 1874 года, Чехов так и остался бы со словесным портретом, нарисованным свидетелями его отрочества. Со слов одного, это был увалень с толстым, «как булка», лицом, мешковатой фигурой, вечно неизвестно чему улыбающийся, непонятно о чем думающий. Со слов другого — плотный, с виду флегматичный, но подвижный и ловкий в играх подросток, любитель копировать взрослых и сверстников и вовсе не рохля. За большую голову Чехова и в гимназии звали «Головань», а еще будто бы — «Пивной котёл».
По утверждению одних, он в гимназические годы отличался здоровым видом и румянцем. По воспоминаниям других, был бледен. Это могло объясняться матовым цветом кожи или мигренью, приступы которой мучили его уже в отрочестве. Как и частые бронхиты с кашлем, о чем Чехов впоследствии рассказывал сам, отвечая на вопросы лечивших его коллег-врачей.
Да, он не отличался отменным здоровьем, но и слабым, болезненным, хилым не был. Разделял все игры и увлечения своих сверстников. Играл в лапту, запускал змея, гонял голубей, ловил птиц. Спустя годы вспоминал: «Когда-то в детстве я осенью лавливал певчих птиц и продавал их на базаре. Что это за наслаждение!» Сохранилось воспоминание, что Чехов хорошо плавал и любил на море играть с собакой — заносил ее далеко-далеко, бросал в воду и наперегонки с нею плыл к берегу. Слыл хорошим ныряльщиком и умудрялся под водой выковыривать бычков, прятавшихся между сваями.