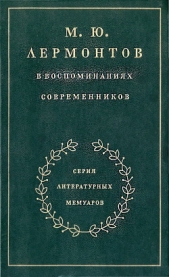А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 1

А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 1 читать книгу онлайн
Воспоминания современников о Пушкине имеют одну особенность, которая обнаруживается лишь тогда, когда тексты их собраны вместе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Надеюсь, это подтвердит сам господин <Денисевич), — сказал Пушкин. <Денисевич> извинился... и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю», — и удалился с своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.
Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в этот день — по каким причинам, вы угадаете сами. Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предрекавшего свое будущее величие; если б на месте моем был другой, не столь мягкосердый служитель муз, а черствый, браннолюбивый воин, который, вместо того чтобы потушить пламя раздора, старался бы еще более раздуть его; если б я повел дело иначе, перешел только через двор к одному лицу, может быть, Пушкина не стало б еще в конце 1819 года и мы не имели бы тех великих произведений, которыми он подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже:
Puis, moi, j'ai servi le grand homme!
Обязан прибавить, что до смерти Пушкина и <Денисевича> я ни разу не проронил слова об этом происшествии. Были маленькие неприятности у <Денисевича> в театрах с военными, вероятно, последствия этой истории, но они скоро кончились тем, что мой майор (начинавший было угрожать заочно Пушкину какими-то не очень рыцарскими угрозами), по моему убеждению, весьма сильному, ускакал скоро из Петербурга.
Через несколько дней увидал я Пушкина в театре: он первый подал мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом «Руслана и Людмилы», на что он отвечал мне: «О! это первые грехи моей молодости!»
— Сделайте одолжение, вводите нас почаще такими грехами в искушение, — отвечал я ему.
По выходе в свет моего «Новика» и «Ледяного дома», когда Пушкин был в апогее своей славы, спешил я послать к нему оба романа, в знак моего уважения к его высокому таланту. Приятель мой, которому я поручал передать ему «Новика», писал ко мне по этому случаю 19 сентября 1832 года: «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили, увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна — его прелестный ум и знания. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: «Он умный человек. Такая скромность ему прилична». Совестно мне повторить слова, которыми подарил меня Пушкин при этом случае; но, перечитывая их ныне, горжусь ими. Отчего ж не погордиться похвалою Пушкина?..[181
]
Узнав, что он занимается историей Пугачевского бунта, я препроводил к нему редкий экземпляр Рычкова[182
]. Вследствие этих посылок я получил от него письмо, которое здесь помещаю. Все лестное, сказанное мне в этом послании, принимаю за радушное приветствие; но мне всего приятнее, что великий писатель почтил мое произведение своею критикой, а ею он не всякого удостоивал, как замечено было недавно и в одной из биографий его. Вот это письмо, которое храню, как драгоценность, вместе со списком моего ответа:
«Милостивый государь, Иван Иванович!
Во-первых, должен я просить у вас прощение за медленность3 и неисправность свою. Портрет Пугачева получил месяц тому назад и, возвратясь из деревни, узнал я, что до сих пор экземпляр его истории вам не доставлен[183
]. Возвращаю вам рукопись Рычкова, коей пользовался я по вашей благосклонности.
Позвольте, милостивый государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такою жадностию и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении, «Ледяной дом» и выше «Последнего Новика», но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано[184
], конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно[185
]. Нельзя его читать без негодования на его мучителя. О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты.
Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего разрешение для меня важно4: в каком смысле упомянули вы слово хобот в последнем вашем творении и по какому наречию?
Препоручая себя вашей благосклонности, честь имею быть с глубочайшим почтением,
Милостивый государь, Вашим покорнейшим слугою
Александр Пушкин».
3-го ноября 1835 г. С.-Петербург.
Ответ мой был на трех листах почтовой бумаги[186
]. Он не может быть напечатан по многим причинам. Во-первых, я крепко защищал в нем историческую истину, которую оспаривает Пушкин. Прежде чем писать мои романы, я долго изучал эпоху и людей того времени, особенно главные исторические лица, которые изображал. Например, чего не перечитал я для своего «Новика»!5 Могу прибавить, я был столько счастлив, что мне попадались под руку весьма редкие источники. Самую местность, нравы и обычаи страны списывал я во время моего двухмесячного путешествия, которое сделал, проехав Лифляндию вдоль и поперек, большею частью по проселочным дорогам. Так же добросовестно изучил я главные лица моего «Ледяного дома» на исторических данных и достоверных преданиях.
В ответе моем я горячо вступился за память моего героя, кабинет-министра Волынского, который, быв губернатором в Астрахани, оживил тамошний край, по назначению Петра Великого ездил послом в Персию и исполнил свои обязанности, как желал царственный гений; в Немирове вел с турками переговоры, полезные для России, и пр. и пр. На Волынского сильные враги свалили преступления, о которых он и не помышлял и в которых не имел средств оправдать себя. Пушкин указывает на дело, вероятно, следственное. Беспристрастная история спросит, кем, при каких обстоятельствах и отношениях оно было составлено, кто были следователи? На него подавал жалобу Тредьяковский — и кого не заставляли подавать на него жалобы! доносили и крепостные люди его, белые и арапчонки, купленные или страхом наказания, или денежною наградой. Впоследствии один сильный авторитет, перед которым должны умолкнуть все другие, читавший дело, на которое указывает Пушкин, авторитет, умевший различать истину от клеветы, оправдал память умного и благородного кабинет-министра. В моем романе я представил его, каким он был — благородным патриотом и таким, каким были люди того времени, даже в высшем кругу общества, волокитой, гулякой, буйным, самоуправным.
Что касается до защиты Пушкиным Тредьяковского, источник ее, конечно, проистекал из благородного чувства; но смею сказать, взгляд его на тогдашнюю эпоху был односторонен... Признаюсь, когда я писал «Ледяной дом», я еще не знал умилительного донесения Василия Кириловича Академии опричиненных ему бесчестии и увечъе. По истине Волынской поступил с ним жестоко, пожалуй, бесчеловечно, — прибавить надо, если все то правда, что в донесении написано. Но этот поступок мелочь перед теми делами, которые тогда так широко и ужасно разыгрывались... Что ж делать? И я крайне скорблю о несчастии бедного стихотворца, еще более члена Академии де-сиянс, которому, может быть, мы обязаны некоторою благодарностию; но от уважения к его личности да избавит меня бог! И я негодую на бесчеловечный поступок Волынского, но все-таки уважаю его за полезные заслуги отечеству и возвышенные чувства в борьбе с могучим временщиком... Увы! сожалениям и негодованиям не будет конца, если к самоуправству над Тредьяковским кабинет-министра присоединить все оскорбления, которые сыпались на голову Василия Кириловича. Грубые нравы того времени, на которые указывает сам Пушкин, — хотя в других отношениях и несправедливо, — и, прибавить надо, унизительная личность стихокропателя поставили его в такое мученическое положение. Если тогда обращались так дурно с людьми учеными, образованными в Париже, писавшими даже французские стишки; если в то время — вспомните, что это было с лишком за сто лет — князья не считали для себя унизительною должность официального шута, негодуйте, сколько угодно, на людей, поступавших так жестоко и так унижавших человечество; но вместе с тем вините и время6. Негодуйте, если хотите, и на самого писателя, что он был человек, как и вся раболепная толпа, его окружавшая, человек малодушный, не возвысившийся над нею ни на один вершок. Но — на нет и суда нет! Зачем же делать его благородным, возвышенным мучеником? Да и чьим, скажу опять, мучеником он не был?.. Неохотно должен здесь привести рассказ о том, как унижали бедного Тредьяковского и другие, кроме Волынского. Привожу здесь этот рассказ, потому что от меня требуют доказательств... Вот слова Ив. Вас. Ступишина (лица, весьма значительного в свое время и весьма замечательного), умершего девяностолетним старцем, если не ошибаюсь, в 1820 году: «Когда Тредьяковский являлся с своими одами... то он всегда, по приказанию Бирона, полз на коленях из самых сеней через все комнаты, держа обеими руками свои стихи на голове; таким образом доползая до тех лиц, перед которыми должен был читать свои произведения, делал им земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху». Несмотря на увечья, от которых Тредьяковский ожидал себе кончины и которые просил освидетельствовать, отказался ли он писать дурацкие стихи на дурацкую свадьбу? Нет, он все-таки написал их и даже прочел, встав с одра смерти.