В наших переулках
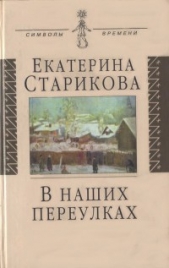
В наших переулках читать книгу онлайн
Книга профессионального литератора Е. В. Стариковой представляет собой воспоминания московской интеллигентки о своих родителях и многочисленных родственниках, о детстве и юности, проведенных и в Москве, и в деревне — на родине ее отца, — и за городом, на природе; причем все подробности взаимоотношений людей и быта даны на историческом фоне, эпоха ощущается в каждом повороте событий, в каждом слове повествования.Наибольшую ценность этим воспоминаниям придает несомненный писательский дар Стариковой. Читатель получает прекрасный образец настоящей русской прозы; книга — от первой до последней страницы — читается буквально на одном дыхании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вокруг нас постоянно шли разговоры об арестах и расстрелах. Но меня тогда еще больше пугали слухи об убийствах, о зарезанных детях, из которых, по тогдашней молве, делают мыло. Родители утешали нас, что из таких худых детей никакого мыла не сделаешь. Но кто знает, достаточно ли мы худы? Возвращаясь из школы в темноте после второй смены, я дрожала от страха. Но стоило мне оказаться в Спасопесковском переулке, и страх улетучивался. Это была родина.
В темное кирпичное здание угрюмой школы мы почему-то проникали не с парадного входа из переулка, а с черного входа, пройдя предварительно через мрачную подворотню и захламленный двор, чтобы попасть в подвал, где были расположены раздевалки. Почему через черный вход? Зачем и от кого были закрыты двери, ведущие к широкой лестнице, к двум прекрасным залам — актовому и спортивному? На этот вечный вопрос советской действительности нет ответа (или он слишком уж глубок для данного незначительного повода). Но первые впечатления — сильные впечатления, и мрак подворотни и подвала навсегда окрасил мои воспоминания о седьмой школе.
Почему я явилась в школу не с начала учебного года, а спустя полмесяца? Не знаю, но, видимо, родители колебались, отдавать ли меня в «нулевой класс», сопротивляясь новшеству. Может быть, их убедил пример Андрея Туркова? К этому времени он уже учился в 9-й школе в Староконюшенном переулке, в бывшей Медведевской гимназии и именно в «нулевке». Во всяком случае, моя судьба решилась без моего участия. И вот с еловой веткой в руках я стою у стола учительницы перед рядами густо заполненных парт. Нет, я не испугалась десятков незнакомых лиц, я вообще еще не различала лиц, но обстановка мне не понравилась. Однако, я не сразу поняла, что моя к ней причастность неотвратима. Потому и не испугалась.
Школа подавила меня безличностью моего там пребывания. Может быть, старшеклассники и не ощущали такой потерянности своего «я», но семилетний ребенок, попав в это переполненное людьми темное и душное здание, чувствовал свое ничтожество в буйной агрессивной массе детей и равнодушных взрослых, бесконечно и, как мне казалось, бессмысленно передвигавшихся по широким коридорам бывшей гимназии. Толпа затихала только при появлении высокой фигуры директора. Пугало то, что он обычно не отвечал на приветствия, проходил молча мимо, надменно и косо задрав голову вверх. Потом мне мама объяснила: один глаз у директора был стеклянный, и он не видел тех, кто был внизу и слева от него. Но и узнав тайну директора, я не перестала страшиться его отдельного молчаливого существования, непонятным образом не замечавшего прибоя школьной жизни.
Пугали меня и запутанные темные коридоры подвального этажа школы, где омерзительно резко пахло прокуренными мужскими уборными. Мне до сих пор снится один и тот же сон: я никак не могу найти нужный мне проход между перекрещивающимися лестницами и снующей густо детской толпой. Не знаю, что бы сказал по поводу этого мучительного сна Фрейд, но я-то знаю: это все седьмая школа и моя в ней потерянность. В том же подвале находилась школьная столовая с длинными, покрытыми липкой клеенкой столами и бесконечными деревянными скамейками. Несмотря на карточки, на почти постоянное желание есть, бесплатное школьное питание — гордость советской образовательной системы — не приносило мне радости. Приближение к столовой вызывало тошноту почти такую же, как приближение к уборным. Школьная кухня отличалась свойством превращать любую пищу в нечто малосъедобное. И если я до сих пор ни при каких обстоятельствах (кроме военных), не беру в рот манной каши и вареной моркови, то обязана этому седьмой школе.
На первом ее этаже в те годы постоянно гудели токарные и слесарные станки — примета обязательного трудового воспитания. Оно не мешало царившему в школе хулиганству и даже случавшемуся пьянству. История о двух погибших мальчишках, выпивших по бутылке спирта в подвальных школьных уборных и там же скончавшихся в муках отравления, долго преследовала мое перепуганное воображение. Этот случай сливался с бесчисленными слухами, ходившими в начале 30-х годов по Москве, об изощренных убийствах, об откормке свиней трупами, о варке мыла из детей и т. д. и т. п. Особенно мучительны стали для меня эти слухи, когда, уже во втором классе, я стала учиться во вторую смену и возвращалась домой темными вечерами. Тогда и мои родные арбатские переулки утрачивали свою привычную уютность и грозили бедами. И еще я пережила настоящее потрясение, когда потеряла недавно выданный «школьный билет», красную книжечку, служившую нам пропуском в здание школы. Этот случай был примером нашего раннего приобщения к страхам бюрократического государства с вечными волнениями его граждан по поводу всяческих «документов». Нас и на второй день войны родители послали в школу, чтобы поставить печати на дневники, свидетельствовавшие о нашем хоть и незаконченном, но образовании. Испытать потерю документа в восемь лет — поучительно.
В самом классе я плохо понимала, что от меня требуется.
Мой нулевой, да и первый класс совпали с излетом педагогических фантазий 20-х годов. Так почему-то нас сначала учили писать только печатными буквами и только карандашом. Это потом уже дома мама заставила меня пройти курс «палочек» и всякого чистописания. В школе же изображение печатных букв напоминало мне рисование, а рисовать я любила. Занятие это не представлялось мне ни серьезным, ни ответственным. Я могла написать букву так, а могла ее украсить по своему вкусу. Отметок в школе в тот год еще не ставили, и я так и не уразумела, почему одни мои буквы учительнице нравятся, а другие нет.
В те годы много времени в младших классах (они, кстати, назывались пока группами) отводилось ритмике и пению. Прямо во время урока вдруг все начинали маршировать и прыгать. В какой-то год в нашем классе даже оказался рояль. Я грацией не отличалась и во время этих занятий чувствовала себя неловко. Но не огорчалась, а ждала, терпеливо ждала, когда это дурачество кончится. Но все-таки немного завидовала тем, кто на 1-е мая, натянув на лицо старый черный чулок или намазав лицо чем-то желтым и подведя косо глаза, изображал совместные пляски негров и китайцев. Эти танцы должны были наглядно представлять солидарность трудящихся мира и воспитывать нас в духе интернационализма. Но и без участия в этих заманчивых танцах я проходила то же воспитание на спектакле «Негритенок и обезьяна», который шел тогда в «Детском театре» и куда нас бесплатно водили родители по приглашению Николая Михайловича Церетели. Его еще не успели сослать, и он сам усаживал нас в ту самую ложу верхнего яруса, куда по ходу сюжета во время спектакля приходили и сам негритенок с обезьяной. Это было для ребенка несколько жутковатое соседство, но и лестное! Не всем зрителям выпадала честь оказаться рядом с участниками спектакля.
Еще больше времени отводилось в школе всяческому вырезанию и склеиванию. Вот это мне удавалось и меня увлекало.
К 21-му января 1932 года я приготовила дома для школы портрет Ленина. Фотографию я вырезала из старого «Огонька», а витиеватую красную рамочку — откуда-то еще и склеила их вместе, получилось, на мой взгляд, красиво. Портрет тоже украсил «красный уголок» в классе. Я только жалела, что траурная еловая ветвь с шишками к этому времени не сохранилась.
Мое тщеславие было разбужено. Мне захотелось самостоятельно соорудить плакат — наподобие тех, непонятых мне по смыслу, но привлекательных с точки зрения рукодельного искусства, что украшали нашу школу сверху донизу. Целый день мы с пятилетним братом, сидя на полу, вырезали из разноцветной бумаги кривые буквы, а затем столь же старательно и криво наклеили их на рулон розовой бумаги — самой красивой, какая у нас нашлась. Я отнесла плакат в школу, счастливо предвкушая восторг и похвалу учительницы. «Вот я хочу и это повесить в красном уголке», — сказала я, протягивая ей розовый рулон. «Что это? Что это? — с ужасом прошептала учительница, взглянув на кривые письмена. — Унеси домой и никому не показывай. Слышишь? Никому!» Я была удивлена и оскорблена. И недоумевала, когда вечером мама и папа, разглядев мой «плакат», стали громко хохотать. Текст, сочиненный мною при полном одобрении Алеши, гласил: «Вода из чайника льется, а Петрушка сидит и смеется».
























