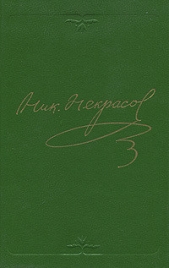На берегу великой реки

На берегу великой реки читать книгу онлайн
Повесть П. Лосева «На берегу великой реки» посвящена детству и ранней юности великого русского поэта, певца печали и мести народной, Николая Алексеевича Некрасова.
Первая часть повести рисует детские годы поэта, картины тяжелой жизни подавленных нуждой и горем крепостных крестьян.
События второй части развертываются в древнем городе Ярославле, где Некрасов учился в губернской гимназии.
На протяжении всей книги показывается становление мировоззрения поэта, формирование его личности.
На родине поэта – в Ярославской области – первая часть повести П. Лосева вышла под названием «У берегов большой реки».
Настоящее издание дополнено и переработано автором.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чертобесие
В классах Николай, бывало, все сидит и читает.
Нет, он не мог пожаловаться: за время двухнедельного изгнания из гимназии друзья не забывали; его. Каждый день кто-нибудь забегал к нему, сообщал, какие были уроки, что проходили, что задали.
А Глушицкий явился с театральными билетами:
– Пошли смотреть «Разбойников» Шиллера!..
Но их ждало разочарование. Перед самым началом спектакля объявили, что заболел какой-то артист и вместо «Разбойников» будет дан веселый, водевиль с музыкой и танцами под названием «Козел отпущения, или Пагубные последствия пылких страстей».
Водевиль Николаю не понравился. Он показался ему не только не веселым, а просто глупым.
– Погоди! Будут и хорошие спектакли, – успокоил Глушицкий. – Теперь ты дорогу в театр знаешь.
А прощаясь у дома, сказал:
– Не верю я, что артист заболел. По-моему, запретили «Разбойников». Провалиться мне на месте, если не так…
Через три дня после этого, когда окончился срок исключения, Николай отправился утром в гимназию. У ворот его встретил Мишка. Он, видно, уже забыл о недавней баталии в Полушкиной роще.
– Здоров будь, Никола! Как живем-можем? – протянул свою лапищу Мишка, а потом не сдержался и крепко обнял приятеля. Известно: старый друг – лучше новых двух!
Это очень тронуло Николая. Захотелось ответить как-то потеплее, поласковее. Но получилось довольно глупо:
– Доброе утро, шер ами! [23]
– Ого-го-го! – загоготал Златоустовский. – Какой же я француз, какой шер ами? Выше двойки ни разу у Турне не перепрыгивал. Да и нет у меня желания на одном языке с Дантесом болтать. Понятно?
Николай улыбнулся.
– Сдаюсь, сдаюсь! Изволь, по-иному скажу. Примите мое нижайшее, Михаил Агапыч! Наше вам!
Добродушно оскалив зубы, Мишка похлопал друга по плечу.
– Вот это еще туда-сюда. Приемлю!
До начала занятий оставалось минут двадцать. Приятели присели на садовую скамейку посреди небольшого уличного сквера. Перед ними сурово маячило серое здание гимназии. Даже яркие солнечные лучи не могли скрасить его мрачного вида. Над входом висела проржавевшая от дождей и времени вывеска со скудными остатками позолоты:
Буквы были древнеславянские: продолговатые, скучные, неразборчивые.
Стояла гимназия на тихой Воскресенской улице. Один конец здания упирался в стены Спасского монастыря, другой выходил на зеленый бульвар с бронзовым монументом основателю «высших наук училища» П. Г. Демидову, богатому уральскому заводчику и не менее богатому ярославскому помещику – владельцу ста тысяч крепостных душ.
Позади гимназии две древние церкви и беспорядочная кучка покосившихся набок домишек. Внизу, в пойме, извивалась замысловатой петлей Которосль…
– Что же ты ничего про Ивана Семеновича не скажешь? – заговорил Мишка. – Уехал?
– Уехал. В понедельник, – ответил Николай.
– Кашляет?
– Ужасно!
Придвинувшись поближе, Николай рассказал о проводах Ивана Семеновича. Из учителей гимназии явилось только двое: Карл Карлович Турне и Петр Павлович Туношенский. Оба навеселе. Принесли какой-то сверток на дорогу. Обняли Ивана Семеновича и, не дождавшись его отъезда, ушли – спешили на уроки.
Деньги Николай передал матери больного учителя. Она долго не хотела принимать, махала руками: «Что вы, что вы! Зачем? Мы свой домик продали. Нам теперь хватит».
Усаживаясь в почтовую карету, Иван Семенович, бледный, с заострившимся носом, подал Николаю ослабевшую руку и свистящим полушепотом сказал:
– Не отчаивайтесь, Некрасов! Помните: жизнь – превосходная штука!..
И, уже стоя на подножке, поддерживаемый матерью, обернулся и спросил;
– Бенедиктова вы читали?
– Да, – поспешно отозвался Николай.
– Поговорить бы надо, да вот видите – уезжаю, – вздохнул учитель. – Попытайтесь сами во всем разобраться. У вас ясный ум… До свиданья!..
Карета дернулась, заскрежетала, запылила. А Николай еще долго стоял на одном месте, охваченный невеселыми думами.
Вот и сейчас, рассказывая, он снова загрустил. Заметив это, Мишка, решил отвлечь друга от печальных мыслей. Он неожиданно зафырчал, как еж.
– Ты что? – удивился Николай.
– Ой, прямо и смех и грех! Вчера Пьерке слегка «темную» сообразили. Предался, понимаешь, Иуде. А мы-то удивляемся: откуда Иуде все известно? Чуть что случится в классе, уже готово – донесли! Коська все на чистую воду вывел. Ну, и помяли вчера малость Нелидку. Ты как, одобряешь?
Странный вопрос: конечно, одобряет! Из всех подлостей Николай больше всего ненавидит фискальство, доносы на товарищей, предательство.
– А еще решили так: целый месяц не замечать Нелидку, – продолжал Мишка, явно удовлетворенный поддержкой друга. – Будто и нет его. Спросит – не отвечать, заговорит – не слышать! Пускай поскорее к дядюшке-сенатору улепетывает подобру-поздорову… Ты смотри, не оплошай. Душа у тебя мягкая: пожалеешь. Он к тебе сейчас же лисой, лисой. Ноты – ноль внимания, фунт презрения! Ясно?
– Будь покоен. Не подведу!
– Вот и славно.
Придвинувшись вплотную, Мишка с опаской оглянулся вокруг и зашептал в самое ухо друга:
– Секрет тебе скажу… Государь к нам приезжает…
– Ей-богу? Не врешь? – изумился Николай.
– Истинная правда! Со дня на день ждут. Батяша сказывал. Он-то уж все знает…
Вот оно что! Не зря, выходит, Степан спрашивал…
Забренчал предупредительный звонок. Поднявшись со скамьи, приятели в обнимку направились в класс. Вошли в неприветливую переднюю. Окон в ней не было. В покривившемся настенном подсвечнике тускло горел, разбрызгивая сало, огарок свечи. В углу, в полумраке, застыл, как призрак, Иуда. Он пронизывал каждого холодным взором. Иуда посмотрел на Некрасова как-то особенно, недовольно задвигав сухими скулами.
Из настежь распахнутых дверей класса пахнуло курительным порошком. Это сторож Алексей прошелся по всей гимназии перед началом занятий с горящей медной курильницей, напоминающей церковное кадило. Так делалось с тех пор, как с низовьев Волги дошли тревожные слухи о холере, беспощадно косившей людей…
– Аве, Никола, аве! [24] – радостно крикнул Глушицкий, завидев в дверях Некрасова. Вслед за тем он гулко застучал ладонями по парте: – Музыка – встречный! Трам-там-там! Трам-там-там!
– Здорово, Колюха! – весело горланил Коська, отрываясь от учебника, в который решился заглянуть в самую последнюю минуту.
Приветствия и восклицания неслись изо всех углов.
С первой парты, как ни в чем не бывало, приветливо махал рукой Пьер Нелидов. Но Николай и взглядом его не удостоил.
В дверях выросла сутулая фигура Петра Павловича Туношенского. Нетвердым шагом дошел он до кафедры и плюхнулся на стул. Утихший было шум возобновился с новой силой.
– Опять под мухой! – ухмылялся Мишка.
– Великолепно! – обрадовался Николай, вытягивая томик Бенедиктова из ранца. – Почитаем!..
Кроме скучной латыни, Петр Павлович преподавал также риторику и логику. Николай был глубоко убежден, что даже Иван Семенович не мог бы сделать логику интересной. Иное дело – риторика. Тут тебе и разные размеры, «в современной пиитике употребляемые», как гласил учебник Кошанского, тут тебе и древняя поэзия, и лирические стихотворения.
Если дать все это достойному мастеру, то заблестит риторика, словно алмаз.
А Петр Павлович, как плохой повар: готовит безвкусные, пресные блюда из превосходных продуктов. Надо же все засушить до такой невероятной степени! Не стихосложение, а волынка какая-то. Ни одного памятного примера, ни одного живого слова.
– Строгий гексаметр, – утомительно и нудно тянул Туношенский, блестя алым носом, – состоит из четырех дактилей или спондеев, пятого дактиля, а шестого спондея или трохея…