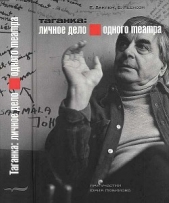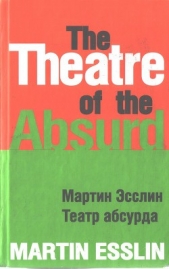Таиров

Таиров читать книгу онлайн
Имя Александра Яковлевича Таирова (1885–1950) известно каждому, кто знаком с историей российского театрального искусства. Этот выдающийся режиссер отвергал как жизнеподобие реалистического театра, так и абстракцию театра условного, противопоставив им синтетический театр, соединяющий в себе слово, музыку, танец, цирк. Свои идеи Таиров пытался воплотить в основанном им Камерном театре, воспевая красоту человека и силу его чувств в диапазоне от трагедии до буффонады. Творческий и личный союз Таирова с великой актрисой Алисой Коонен породил лучшие спектакли Камерного, но в их оценке не было единодушия — режиссера упрекали в эстетизме, западничестве, высокомерном отношении к зрителям. В результате в 1949 году театр был закрыт, что привело вскоре к болезни и смерти его основателя. Первая биография Таирова в серии ЖЗЛ необычна — это документальный роман о режиссере, созданный его собратом по ремеслу, режиссером и писателем Михаилом Левитиным. Автор книги исследует не только драматический жизненный путь Таирова, но и его творческое наследие, глубоко повлиявшее на современный театр.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Для всех хочет быть хорошим, — думала она о Таирове. — Всех взял, только что уборщиц забыл. Выпустили бы вас, как же, если бы не мой Ленечка. И ролей не дает», — хотела пожаловаться она, но взяла себя в руки.
«Еду, — подумал Эггерт, победоносно глядя во мглу. — А ведь, действительно, еду. И как ему не стыдно, — подумал он о Таирове, — вести на Запад всю эту нашу чепуху? „Федры“ они, что ли, в Париже не видели или „Лекуврер“? Все поразить хочет, новая трактовка, новая трактовка, а там Рейнгардт, а там Жемье, какие люди, провал неминуем. И куда он лезет со своим Камерным», — с раздражением подумал Эггерт, на какое-то время забыв, что он и сам артист этого Камерного, и неплохой артист.
«Хорошо, что я не ушел к Фердинандову, — думал в постели Румнев. — Где теперь его Опытно-Героический, бедолаги? Надо мамочке японскую чашку из Парижа привести, интересно, сколько у них такие чашки стоят? Если не хватит, у Церетелли попрошу, Сварожич, конечно, приревнует». И, мысленно представив себе их вместе, попытался через два вагона подслушать, о чем они там молчат, но храп Ценина жить мешал, не только слышать.
«Э-хе-хе, — подумал Аркадин, подтянув к животу ноющее колено. — Катишь ты себе в Париж, Иван Павлович, без зазрения совести, и кому ты там в Париже нужен, следил бы у себя на Москве-реке за поплавком, всегда Саша что-нибудь придумает, до чего же он человек неуемный, что говорить — умница, мало таких, здорово мне с ним повезло».
Он любил людей, за которых можно было спрятаться, — Гайдебурова, Таирова.
И, засыпая, долго еще вспоминал Иван Павлович о впечатлении, произведенном на него при первой встрече с Таировым.
«Энергичный малый, — подумал он тогда и позавидовал: — Неуемные люди эти евреи, может, и на самом деле Бог на их стороне».
Он еще долго пытался не сближаться с Таировым, даже побаивался, чувствуя гайдебуровское настроение, последствий встречи с ним, а потом присмотрелся и не заметил, как увлекся, почти влюбился, не как в актера, тут он находил много недостатков, а как в какого-то очень надежного человека.
«Где я встречал еще таких? — подумал он почти после первой встречи. — Да, пожалуй, нигде».
— Сокамерников везем, — скрывая улыбку, строго сказал старший машинист Бобров помощнику.
— Да ну, — удивился тот, — а для чего?
— Революцию делать.
— У них что, своих не хватает?
— Дурак! Настоящую революцию, нашу, Октябрьскую.
Состав неуклонно двигался к той стороне границы, оставалось четыре дня невыносимого пути. Его следовало перенести, как грипп, покорно следуя всем этапам выздоровления, зная, что в конце концов всё образумится, всё пройдет, жар куда-то денется вместе с температурой, женщинам останется только наложить тон и подвести глаза, мужчинам — приосаниться и, выскакивая на каждой остановке на перрон за пивом, надвинуть шляпы поглубже и при встрече с Таировым постараться говорить в сторону, чтобы ни в чем таком не заподозрил.
Здесь, в этом поезде, рядом с Алисой, до которой, если бы он не боялся ее разбудить, было протянуть руку в темноте и дотронуться, первый раз за эти очень трудные годы своей жизни подумал Александр Яковлевич, что всё делал правильно.
Был такой драматург — Юрий Олеша, блестящий драматург, но Таиров его не ставил, ставил Мейерхольд. Он написал несколько пьес, одна из них, «Список благодеяний» — о том, как знаменитая советская актриса Лёля Гончарова решает для себя, остаться или не остаться за рубежом.
Живя в РСФСР, она вела дневник, а в нем два списка: один — благодеяний советской власти, другой — преступлений. Это был тайный дневник. И вот, чтобы скомпрометировать бедную Лёлю, не дать ей вернуться из-за границы, ту часть, где преступления, из дневника выдрали и опубликовали, а обнаружили сам дневник в салоне некой мадам Трегубовой, в котором Лёля Гончарова заказала себе серебряное платье, чтобы прийти на бал знаменитостей, где, возможно, будет Чаплин, с которым она мечтает встретиться и посоветоваться, что ей делать — возвращаться в СССР, не возвращаться. Дневник Лёля случайно забыла в салоне, а белогвардейские дружки мадам Трегубовой нашли его и воспользовались.
Одним словом, блестяще выполненная литературно-драматургическая абракадабра. Это было время, когда приходилось бить себя кулаками в грудь, доказывая свою лояльность советской власти. И Олеша, и Мейерхольд любили это делать, принося в жертву не только противников, но и своих старых друзей.
Прототипом Лёли Гончаровой, если так можно выразиться, якобы явился великий Михаил Чехов, эмигрировавший в двадцать восьмом году и с тех пор все никак не способный обрести на Западе место. История же с серебряным платьем наверняка была подсказана Олеше Мейерхольдом, и не без злорадства. Ведь точно такое же платье приняла в подарок от модного дома Молине во время первых гастролей Камерного в Париже Алиса Коонен. Приняла почти даром, оплатив только стоимость материала.
Парижское платье из серебряных кружев. На банкете, устроенном в честь закрытия гастролей, она была неотразима.
С тех пор прошло десять лет. Но не в правилах Мейерхольда было забывать об уязвимых местах в биографии противников. И вот в тридцать втором, после того, как он сам был буквально выковырен советской властью из-за границы, где никак не мог решиться — вернуться, не вернуться, — требовал прислать на гастроли Театр имени Мейерхольда, и все-таки по настоянию своей жены, Зинаиды Райх, вернулся, вспомнил Всеволод Эмильевич эту самую всем известную историю про платье для Коонен и пересказал Юрию Олеше. А тот написал, блестяще написал — и о белогвардейцах, и о салоне мадам Трегубовой, и о случайно забытом там дневнике Лёли Гончаровой, где злополучный список, а дальше всё, что полагается писать в таких случаях.
И никто из них не вспомнил, что на совещании, посвященном нежеланию Мейерхольда вернуться, именно Таиров сказал, что нельзя обвинить Мейерхольда, следует разобраться, что вообще происходит в сферах руководства искусством, если окончательно уехал Чехов, упрямится возвращаться Мейерхольд, крепко задерживается в Париже Грановский с Еврейским театром.
Не вспомнил об этом Всеволод Эмильевич, вернувшись. Политические инсинуации уже начинали входить тогда в моду, ими очень умел пользоваться Мейерхольд. И это не было для красного словца — он хорошо знал, что делает, он сводил счеты и одновременно клялся в верности, добиваясь прощения за мороку с невозвращением. Но напраслина, возведенная на другого, уже не могла в то время спасти тебя самого.
И все-таки в 1935 году, после третьих гастролей Камерного, уже не только по Европе, но и по Латинской Америке, Сталин наконец окрестил театр буржуазным, вероятно, имея в виду его успех у Запада. С отменой этого определения, при всей своей ловкости, Александр Яковлевич никак не мог справиться, так и ходил, к общему удовлетворению, буржуазным.
Так вот, за роковое платье, не вызвавшее никакого осуждения в двадцать третьем, могло крепко влететь в тридцать втором. Но даже знай Таиров и Коонен, как изменится время, им и в голову не пришло бы остаться. Они мечтали вернуться с триумфом для своей страны. Даже наедине, даже мысленно не вели они подобных разговоров.
В отличие от Чехова и Мейерхольда им всё было ясно. Есть единственное государство на свете, создающее новое искусство, а в этом государстве — культурные государственные деятели, которые не дадут их в обиду, самые доверчивые в мире зрители, и конечно же свое гнездо на Тверской, в котором есть все для жизни.
Коонен заслужила серебряное платье, ей и в голову не приходило раздваиваться душой, торговать одной из половинок списка. Она была такой же цельной, как ее муж, вся принадлежала Камерному театру, а так как он находился на территории Советского государства, то и этому самому государству. Они успели оценить благодеяния советской власти, устроившей ей эти самые гастроли, из которых, несмотря на очень большой успех, театр вернулся с большим финансовым дефицитом, объясняя это, в основном, конфликтом Франции и Германии из-за Рура. Газеты уделяли внимание оккупации Рейнской области немногим больше, чем гастролям Камерного, и Коонен, в эйфории успеха, иногда вспоминая, что живет в реальном мире, расспрашивала Таирова о происходящем.