Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
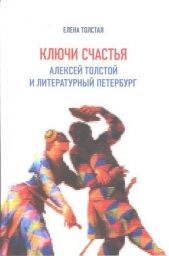
Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург читать книгу онлайн
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.
Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Москве Софья перестает учиться, начинает самостоятельно работать и пробует выставляться:
Вернувшись в Москву и с год поработав над натюрмортами, я решилась послать два натюрморта на выставку «Мир искусства», и каков был мой восторг, когда оба <этюда> натюрморта были приняты, и я попала на выставку со всеми корифеями живописи того времени. <Это было в 1912 году> Было такое время, когда каждым новым художником на выставке очень интересовались![,] и я не отходила от своих натюрмортов, слушая отзывы, то плача, то радуясь. Было время больших споров, больших экспериментов, больших дерзаний в живописи. Довлел умами Сезанн и Пикассо. Париж и мо<й>я <профессор Лефоконье> молодость внесли большой пересмотр основ станковой живописи. Почему-то Сезанн во мне не убил Бакста… (Дымшиц-Толстая рук. 1: 31–32).
В черновике уже действует самоцензура: Софья понимает, что Ле Фоконье не известен и не слишком интересен современному потенциальному читателю, вычеркивает его имя и списывает обновление своего живописного стиля на «вообще Париж» и собственную молодость.
В круг друзей Софьи в Москве входили Аристарх Лентулов, Мартирос Сарьян, Павел Кузнецов, Георгий Якулов, братья Милиоти — почти все эти художники начинали как импрессионисты в «Голубой розе». С начала 1910-х многие из них увлеклись кубизмом. Они писали ее портреты, многие из которых еще предстоит найти.
Началась дружба с членами «Мира искусства» и «Бубновым валетом» и др[угими] и самостоятельная работа на выставки. Бывали и у нас журфиксы, и я бывала у Сарьяна [141], Милиоти [142], Якулова, Коненкова [143] и т. д. Сарьян — всегда скромный, вдумчивый и пышущий цветом и светом в своей живописи. Я помню одно мое посещение Сарьяна. Вхожу в громадную мастерскую, совершенно пустую, с несколькими мольбертами и с холстами, повернутыми к стенке. На просьбу что-нибудь показать Сарьян откуда-то достает небольшой холст и устанавливает его на мольберт[,] и мастерская точно солнечными лучами осветилась, так много было цвета и света в его живописи. При этом скромная и немногословная фигура Сарьяна подчеркивала его и дальнейшие возможности в этих исканиях. Как-то у нас после какого-то маскарада я сидела в присутствии Сарьяна на диванчике красного дерева, обитом синим сукном в темно-красном шелковом платье и приложила к глазам маленькую черную маску. Сарьян загорелся желанием написать такой портрет. Портрет был написан, он находится в Тифлисском музее. Милиоти, наоборот, писал портреты, окружая их фантастикой. Так он меня написал в легком, декольтированном сиреневом платье с попугаем на пальце, гуляющей по какому-то райскому саду. Портрет этот был куплен с заграничной выставки для государственного музея в Гааге. Якулов тоже написал мой портрет. Его я интересовала с разных точек зрения, и [с] психологической, и с точки зрения живописной. Он написал с меня сложную композицию портрета, где я была изображена в разные моменты. Портрет этот в 1915 году был куплен с выставки. В 1918 году он появился в витрине комиссионного магазина. Якулов, увидев портрет, ушел домой за деньгами, чтобы его приобрести, но на следующий день его уже не было — его кто-то купил. Таким образом, неизвестно, куда этот портрет исчез. Якулов, необычайно живой, ищущий художник, всегда горел над какими-нибудь новыми задачами в живописи, литературе и т. д. Он был всегда окружен такими же живыми, ищущими людьми от искусства. Его болезнь и преждевременная смерть — большая потеря для всего живого и трепетного в искусстве, потому что самое ценное в живописи, когда вы в ней чувствуете живой трепет (Там же: 51–53).
Последняя фраза поразительна: на старости лет бывшая авангардистка возводит в высший критерий искусства совершенно неавангардные ценности.
Софья позже сблизилась с Гончаровой и даже подпала под ее влияние:
[Я испытала] большое увлечение серией вещей Гончаровой, привезенных ею из Кишинева, изображающих местных евреев. Экспрессию и декоративность этих вещей я и до сих пор хорошо помню. Ларионов — необычайно живой и ищущий художник, который и в своих исканиях никогда не отходил от станковой живописи: я говорю о ларионовском лучизме. Если я вижу выход у Татлина в архитектуру, у Малевича в декоративную живопись, то лучизм утончает станковую живопись, но остается живописью станковой.
До экспозиции (1914 г.?) пришли на выставку Ларионов и Гончарова. Не будучи со мною знакомы, они обратили серьезное внимание на мои работы, которые, в особенности, Гончаровой очень понравились. Нас познакомили [,]и началось наше знакомство. Была я и у них в мастерской. Мастерской как таковой не было. Была пустая небольшая комната, где в углу на полу грудой были сложены холсты и картины. На просьбу показать что-нибудь из угла извлекалась какая-нибудь прекрасная вещь, выносилась в другую комнату, где и происходил показ (Там же: 49–50).
Софья описывает явление футуризма в 1913 году с все еще не забытым тогдашним энтузиазмом:
В литературе выдвигался Маяковский со своей группой. Вся молодежь тянулась к революции в искусстве, как мы тогда думали. Публика охала, ахала, бежала вслед Маяковскому, Бурлюкам, которые, прогуливаясь весной по Кузнецкому мосту, вместо цветка вдели ложку в петлицу, как протест против пошлости в <искусстве> общественном вкусе (Там же: 34).
В своем романе о революции — «Хождении по мукам», иронически и неодобрительно оглядываясь назад, на 1913 год, Толстой сильно исказил реальные события. Дело в том, что первоначальная рецепция футуризма и у него была самой оптимистической. Объединение художников-кубистов «Бубновый валет» (1910–1913) вовсе не было незнакомо Толстому. Ср. афишу, приведенную в воспоминаниях А. Крученых: «Общество художников “Бубновый валет”. 24 февраля 1913 г. 2-й диспут о современном искусстве. 1. Доклад И. А. Аксенова о современном искусстве. 2. Д. Д. Бурлюк. Новое искусство в России и отношение к нему художественной критики (по поводу инцидента с картиной Репина). После доклада прения при участии М. Волошина, Крузовского, А. Лентулова, И. Машкова, В. Татлина, Алексея Толстого, Топоркова, Г. Чулкова и др.» (Крученых 1996: 164). Хотя объявление об участии в диспуте о «Бубновом валете» Толстой опроверг письмом в редакцию газеты «Русское слово» (Баранов 1983: 229), все же он был своим человеком в этом объединении; каталоги и московской, и петербургской выставок «Бубнового валета» 1913 года упоминают в числе участников гр. С. И. Толстую, выставившую несколько натюрмортов, а в числе экспонатов — «Портрет гр. С. И. Толстой работы А. Лентулова (1912, собственность гр. А. Н. Толстого)».
Зимой — весной 1913 года, то есть тогда же, когда происходила эта его и волошинская активность по поводу новых веяний, Толстой записывает: «Прекрасный сужет для главы в романе: Макс, явившийся после доклада и сейчас же начавший опровергать. Непременно лекция о кубизме. Кубизм, как антитеза импрессионизму. Кубизмы (sic!), женатые на русских» (Материалы: 306). Он наверняка имел в виду русскую жену Пикассо Ольгу Хохлову.
Толстой с интересом наблюдал за шествием нового искусства в России. Еще в середине 1912 года, в комедии «Спасательный круг эстетизму», он изобразил богатых купцов, пламенных энтузиастов нового искусства, в соответствии с жанром, в откровенно сатирических тонах; но футуризм оказался жизнеспособным — и Толстой, семейно связанный с художественными кругами, убедился в этом очень скоро. Из текста комедии явствует, что он с самого начала превосходно понимал теософские, по сути богоборческие, корни идеологии кубизма и знал о демонической символике куба, но перед войной это не пугало его и не мешало ему быть страстным неофитом футуристического искусства.
Как известно, посетив Россию в начале 1914 года, вождь итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти поразился тому, что его приветствуют здесь только люди, казалось бы, бесконечно далекие от его идей, в то время как русские футуристы демонстративно игнорируют его выступления. Толстой выглядел образцовым представителем первых — то есть типичных буржуа. Он был в числе встречавших Маринетти на вокзале в Москве — об этом сообщала «Московская газета» 27 января 1914 года: «Лидера итальянских футуристов встретили Г. Тастевен, А. Н. Толстой (неожиданно объявивший себя апологетом футуризма) <…> 10 февраля 1914 года в “Московской газете” были напечатаны следующие высказывания А. Толстого о футуризме: “В футуризме я вижу чувствование жизни, ощущение радости бытия, поэтому за футуризмом я считаю огромную будущность. Истинные элементы футуризма я нахожу ясно выраженными в творчестве Маринетти, которое меня интересует. Футуризм — искусство будущего. Я провел два вечера в беседе с Маринетти и нахожу, что выступление его в России сейчас своевременно, именно теперь, когда господствуют идеи застоя и пессимизма, когда мрак идеализации старины застилает нам радости непосредственного бытия. Ощущение бытия выражается в движении, а не в застое. Я за истинное движение, а не призрачное, как у нас, — за оживление не только духа, но и тела. Я прошел уже школу пессимизма, вижу в будущем торжество начал жизни[,] и в этом смысле я — футурист”» (Харджиев 1997-2: 34).


























