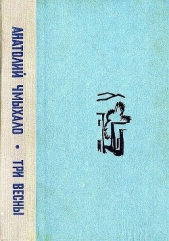Повести моей жизни. Том 2

Повести моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это было то самое стихотворение, за которое я главным образом сижу теперь в Двинской крепости и пишу эти повести о былой моей жизни.
Создавая тогда свою первую поэму, я даже и не мечтал, что она так отзовется впоследствии на моей судьбе, и, записав ее в тетрадку, оставил лежать до поры до времени. Мне было очень стыдно сказать кому-нибудь из товарищей по заточению или на свободе, что я тоже пишу стихи. Я привык смотреть на поэзию, как на высший род литературы, доступный только избранным душам, на которых находит «вдохновение».
— звучали во мне стихи Пушкина, и вдруг я, — ничем не замечательный человек, — предъявляю претензию на то же самое! Мне это казалось таким самомненьем, с которым ничто сравняться не может.
Я долго таил от всех свои поэтические произведения, но желание узнать, могу ли я действительно писать хорошие стихи, пересилило наконец мою застенчивость.
Как раз в это время в нашей внутренней жизни произошла огромная перемена. До сих пор мы были обречены на абсолютное безмолвие и добились только возможности перестукиваться, а теперь мы вдруг заговорили друг с другом своим настоящим голосом, несмотря на все ухищрения властей сделать нас немыми.
Открыл такую возможность не я, а двое моих товарищей по заточению. Без сомнения, им было особенно мучительно бесконечное молчание, потому что их способ нарушить его оказался поистине героическим.
Дело в том, что наши камеры заключали в себе все необходимое для физиологической деятельности человека. Это было устроено здесь не для удобства заточенных, а для того, чтобы, раз заперев их на замок, не нужно было выпускать их более в коридор и даже входить к ним.
С такой целью в углу каждой камеры была вделана в пол труба вроде граммофонной, но шире. Нижний, более узкий ее конец входил в стену и поднимался там немного для того, чтобы вода, впущенная в него из промывного крана в стене под окном, после того как в граммофон попали отбросы пищи и все человеческое, застаивалась бы в изгибе и таким образом герметически закрывала бы собою его нижнее отверстие, открывающееся в сточную трубу, идущую в стене здания вертикально через все шесть его этажей.
Очевидно, что к каждой такой стенной трубе прилегали одна над другой по шести камер с правой стороны и по шести с левой, всего двенадцать камер, и что отверстия их оригинальных граммофонов входили в нее.
А трубы, как известно, прекрасно проводят звук. Потому и через наши сточные можно было бы говорить из всех примыкающих к ним камер, если бы не мешали этому самовозобновляющиеся в их изгибах водные затворы.
И вот, как я уже упомянул, двое из находящихся выше меня товарищей, чувствуя, что готовы сойти с ума от дальнейшего безмолвия, сговорились стуком через разделяющую их стену одновременно выплескать руками застаивающуюся в их граммофонах воду и, сделав это, убедились, что могут прекрасно разговаривать через них даже вполголоса.
Немедленно были даны сигналы о таком удивительном открытии всем остальным заточенным, и на другой же день, несмотря на отвращение выплескивать голой рукой воду из таких мерзких труб, почти все начали разговаривать через них. Соседи позвали сейчас же и меня, рассказав мне стуком, что и как надо сделать.
Я тотчас выплескал воду. Отвратительный воздух повеял на меня из граммофона, и в нем послышался шум голосов.
— Слышите? — спрашивало меня оттуда сразу несколько человек.
— Слышу! — крикнул я. — Только дайте мне сначала вымыть руку!
Я бросился к умывальнику и скорее вымыл с мылом руки, закрыв свой прочищенный граммофон его железной крышкой, чтобы помешать дальнейшему распространению в моей камере едкой вони.
Потом я сел на пол и открыл крышку.
— Слышите? — спросил я.
— Слышим, — отвечали мои товарищи.
Их было там пять человек, так как камеры для политических в Доме предварительного заключения чередовались с камерами для уголовных. Каждый из нас сидел обязательно между двумя уголовными, подобно Христу, распятому когда-то между разбойниками.
Но уголовные не перестукивались, они все сидели робко и смирно, и мы, конечно, не пригласили их в свои «клубы», как после этого стали называться сточные трубы Дома предварительного заключения.
С первого раза мне показался совершенно невозможным подобный способ сношений, наполнявший зловонием наши камеры. Но и на следующий день я опять пошел туда, так как размышление за ночь убедило меня, что это — единственный способ спасти от сумасшествия тех, кто не в силах был, подобно мне, заниматься по целым дням. Ведь многие из нас, как обнаружилось при первом же нашем «заседании», уже потеряли от двухлетнего безмолвия способность связной речи и забывали при разговоре самые обычные слова.
Так пришлось и мне обязательно просиживать перед вонючей трубой около двух часов в день, когда наступало время так называемых «общих собраний клуба». Многие честным образом сидели тут, чтоб избавиться от тоски, по девяти часов и даже читали вслух друг другу книги. Не прошло и двух недель нашей граммофонной практики, как уже обнаружилось ее благодетельное влияние на психику наиболее угнетенных духом. Они перестали путаться в словах и начали даже смеяться нашим шуткам, на которые ранее отвечали лишь угрюмым молчанием.
Встревожившееся начальство, забегавшее по коридорам в первый день нашего всеобщего открытия клубов, грозило карцерами за их продолжение, но ничего не могло сделать, так как нас было тогда более трехсот человек, а карцеров не более тридцати, и потому на нас через два-три дня совсем махнули рукой.
— Говорите, — сказал кому-то помощник управляющего, — сколько угодно, но только не в присутствии властей!
И вот в этой-то непоэтической трубе и прозвучали впервые мои первые поэтические опыты вслед за лучшими произведениями Лермонтова, Некрасова, Пушкина и других! Печальна твоя участь, русская поэзия! Но что мы могли поделать? Вечно одинокие, без всяких впечатлений извне, мы должны были придумывать всякие темы для поддержания наших разговоров, так как молча сидеть перед сточной стенной трубой, конечно, не было никакого смысла.
— Давайте вспоминать стихотворения, — сказал сверху один из моих товарищей, Лермонтов (умерший потом в заточении), как только после нескольких дней все было пересказано нами о себе и разговор стал часто замирать.
— Давайте! — послышались голоса. — Пусть каждый продекламирует стихотворение, которое ему особенно нравится!
И вот дошла очередь до меня.
— Я вам прочту большое стихотворение Огарёва! — сказал я, зная, что русские издания его стихотворений были запрещены и потому мне легко выдать свои собственные стихи за неизвестные в России его произведения.
— Прочти! — послышались голоса из трубы. — Из Огарёва мы почти ничего не знаем.
У меня захватило дух. Что-то они скажут? Вдруг при первых же куплетах заявят, что я их обманываю, что такие плохие стихи не могут быть огарёвскими? Чувствуя, что собьюсь от волнения, если буду говорить наизусть, я взял свою тетрадку и, набрав побольше затхлого воздуха в легкие, начал читать свои «Виденья в темнице», переделанные потом в «Венецианского узника».
Никто меня не перебил, никто не кашлянул до самого конца. Я кончил, все молчали.
— Дай, пожалуйста, списать! — раздался наконец один голос.
— И мне! И мне! — зазвучали другие. — Продиктуй сегодня же. Их надо поскорее выучить наизусть.
Они ответили такими похвалами, что мне теперь стыдно их повторить, но я могу легко объяснить их. Дело в том, что я описал в своих стихах то, что переживал в тех же условиях, как и они, и потому их души были особенно отзывчивы на мои произведения. Да это и понятно. Никто, не бывший в одиночном заключении, несмотря на огромный талант, не может описать его настроений так правдиво, как описал бы их человек, не лишенный литературных способностей, после достаточного времени томления в политической одиночной темнице.