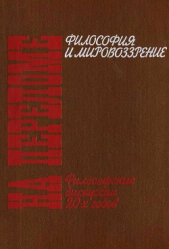Воспоминания о Штейнере

Воспоминания о Штейнере читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Думается, что невысказываемая сила и благородство, излучаемые им, просто действенность его "ауры", производили это впечатление; знавшие его близко, удивлялись ему, как человеку, и рассказывали интересные вещи о его биографии (до "антропософской"); доктор медицины, независимый, оригинал, широко образованный естествоиспытатель, путешественник, долго живший где — то на африканских островах [252], в местах былой Атлантиды, собравший там интереснейшие факты, коллекции, он был глубоко оригинальным, вдумчивым собеседником у себя на дому и у себя в экспериментальной лечебнице, но переступая порог дома, конфузился и замыкался; он много работал в "совете"; и его тонкая, строго — стройная фигура на эстраде в Президиуме имела такой непроизвольно импозантный, достойный вид, что казалось: он — то и есть "внутренне" держащий председательские бразды.
Вероятно, это себя осознающая сила — выражение внутренней работы (он был подвинутый "ученик"): в нем подчеркивалась нота ЙОГА, церемонимейстера некоего внутреннего культа мистерий, что в естествоиспытателе производило особенное впечатление; его личная работа — изучение нервных болезней и новых методов лечения (цветом [253] и звуком); несомненно, что в это лечение он вносил "опыт" антропософа; и несомненно: в нем лично этот "опыт" был весьма глубок; если Бауэр — "мистик", пришедший в антропософию и внесший в нее свое "светское" изучение философии, то Пайперс, — пришедший к антропософии естествоиспытатель "йог"; научный иогизм в антропософии — ведь это напоминало бы новый подход к проблемам исторического оккультизма (и на этот раз без кавычек); Пайперс тоже казался мне глубоко нормальным человеком, с сильно развитой волей, к… изменению в первую голову себя; и только из этого с собой "иогического" опыта пытающегося с величайшей осторожностью его нести немногим пациентам — антропософам.
Эти личные его, "оккультные", стороны явно сказывались в изумительном исполнении им роли Бенедикта в мистериях Штейнера. Нечто, показанное им в жестах, в иную минуту переступало границы игры и делалось обрядом; он минутами бывал подлинным гиерофантом и заставлял нас переживать "Мистерии", как мистерии "без кавычек". Глубоко скрытая в немоте его внутренняя жизнь проступала мне какою — то прекрасною гиератикой, и он, — высокий, худой, моложавый, с будто всосанными щеками, с вьющимися белокурыми волосами и неподвижными голубыми глазами, казался мне одетым не в неизменный сюртук, застегнутый на все пуговицы, а в рыцарские доспехи: какой — то тамплиер в сюртуке, или рыцарь при храме.
Думаю, что я отмечаю основную ноту в Пайперсе: именно "рыцарь" (в вовсе новом смысле); и самое его как бы исчезновение с фланга внешнего (лекции, статьи, руководительство) вызывалось держанием какой — то внутренней вахты.
Где он, — не знаю: в 21–23 годах я его нигде не встречал, статей его нигде не читал; шумели на "авансцене" совсем иной род [рой] деятелей, и я вспоминал с грустью отсутствие Пайперса.
Или он утроил свою вахту?
Перечисляя заметных баварских деятелей из "стариков", отмечу графа Лерхенфельд [254]; в Пайперсе, естествоиспытателе, виделся мне внутренний "рыцарь" и внутренний романтик, подымающий по — новому тему "орденов"; в Лерхенфельде действовал на меня явный романтик; в 12‑м веке он боролся бы в первых рядах рыцарства с сарацинами; в конце 18‑го века в нем явно заговорила бы "Геттингенская" душа; когда я встречался с Лерхенфельдом, передо мною всплывал век Шиллера, а потом и Шеллинга; высокий, голубоглазый, крепкий тевтон, аристократ не по "графству", а по чисто биологическим признакам (здоровье, физическая сила, которой не нужно выставляться и которая выглядит поэтому очень мягко); прекрасно воспитанный немец, непроизвольно выявляющий склонность к старинному французскому вежеству, немец до злосчастной эпохи "пангерманизма", до — бисмаркский немец, и оттого баварец — радикал, оппозиционер, антивильгельмист, могший составить кружок друзей юного Людвига Баварского (до реакционного поворота в последнем); аристократ, выходец из старинного рода баварских придворных, но давно повернутый от двора к поэзии "прекрасно — романтической", к философии, оттого интересующийся религиозно — философскими вопросами вплоть до интересов к произведениям Сергея и Евгения Трубецких (с последним он лично встречался), не говоря о Владимире Соловьеве, которого он — пламенный давнишний почитатель, вплоть до реального осуществления перевода ряда томов Соловьева на немецкий язык (изданы они на средства Лерхенфельда [255]); в постоянной активной повернутости Лерхенфельда к темам русской культуры чувствовалась старомодность, говорящая "нет" позиции буржуазного империализма Германии с ее презрением к России и Франции; в беседах с Перчен фельдом вставала эпоха, когда русские 1 егельянцы кружка Станкевича учились у немцев и когда немцев удивляли русские юноши, вполне овладевшие Гегелем, и я вспомнил: в Мюнхене много лет проживал Ф. И. Тютчев, тесно сблизившийся с семейством Лерхенфельдов (тем самым).
Эти в прекрасном смысле черты запоздалого романтизма Германии (до 48 года), не искаженные позднейшим вырождением германской культуры, сочетались в Лерхенфельде с вырывом в революционно — культурное будущее, с небоязнью пролетариата, с горячим пылом и смелостью, с которой "граф", прикованный к чисто придворным и католическим традициям семьи, оказался не на словах, а на деле и "учеником" Штейнера, и верным помощником в осуществлении ряда культурных антропософских начинаний; Лерхенфельду приходилось за "верность" Штейнеру претерпевать перманентную драму, которая начиналась уже в семье, где дети и жена оказывались в рядах злейших врагов антропософии и где работали "иезуиты"; и — далее: эта борьба за быт продолжалась в кругу родственников и всего традиционного круга знакомств; не легко было Лерхенфельду жить и работать в Мюнхене, где Лерхенфельды, начиная с жены, работали с иезуитами и баварскими зубрами. Достаточно сказать: в мировой войне баварские генералы выявились, как угнетатели первого сорта, а мобилизованный "полковник" Лерхенфельд в окопах отстукивал на машинке сочинение Соловьева "Россия и вселенская церковь"; родственник Лерхенфельда по ликвидации баварского советского режима, был главным министром Баварии, а "штейнерианец" Лерхенфельд крупно работал именно в "советской" Баварии, и позднее, приняв лозунги социальной "терхчленности" Штейнера, оказался со Штейнером в "предателях" отечества.
Лерхенфельд, разорвал [разорвав] со средою, пришел в антропософию: здесь "твердо" зажить; и не могу не представить себе Лерхенфельда не слитым всем существом с антропософскими начинаниями, не говоря о средствах; он отдавал обществу в буквальном смысле все, что имел (за вычетом содержания семье, в которой работали иезуиты); и жил без средств и "дома"; его "дом" — мюнхенская ветвь (кажется, он впоследствии поселился в Швейцарии); "изгой" и "пролетарий", он поражал сочетанием утонченного благородства, чистотой расы, достоинством, непроизвольным изяществом манер и умением быть простым до… невидности; и тут "простота" от светскости сочеталась в нем со светскостью от чистоты и простоты (в прекрасном смысле) его душевной природы; остроумный, тонкий собеседник, образованный, владеющий жаргоном идеалистической философии, он был в числе подлинных учеников Штейнера и являл для меня типичный образец того, как преломляется в антропософии до-Гегелевская фаза истории немецкой культуры. Если прошлое культуры ослабляло в нем реальность достижений в прорыве к будущему, то с другой стороны, — эпоха Новалисова "Голубого цветка", введенная в антропософию, очищала атмосферу "среднего состава" членов, вносящего в общество неотмытый налет мещанства, узости, меркантильности. В Лерхенфельде, ушедшем из аристократии и миновавшем буржуазию, чувствовалось мне что — то от Герцена (если бы Лерхенфельд ушел с головой в социальный вопрос, то он взял бы курс на позицию Герцена, т. е. оказался бы таким же "своеобразным социалистом", как Герцен). Я любил встречаться с Лерхенфельд ом, иногда дружески обедать с ним где — нибудь, беседуя о "началах цельного знания" Вл. Соловьева; но еще более я любил в Лерхенфельде не ум, а чистое, благородное биение сердца и ту моральную фантазию, которую незаметно он провел в "новом" и воистину "смелом" быте жизни, для которого нужно было вызвать творчество из страдания и любви.