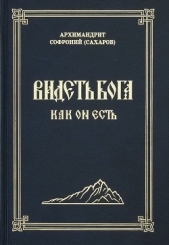Это мы, Господи, пред Тобою

Это мы, Господи, пред Тобою читать книгу онлайн
Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор — активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И я опять с облегчением вздыхаю: судьба — «кисмет» нас развязала и оставила нам только письма, полные дружеских чувств и теплоты. Мне нужно только это.
Чтобы покончить с темой В. Г., хочется сказать, что, отыскав меня по освобождении моем по оставленному адресу тети, он мне и освобожденной помогал в устройстве с работой в той же Киселевке. Освободившись позже меня, прямо пришел на мою квартиру на шахте Тайбинка. Но, уехав домой, полагаю, умер. На Тайбинке ждали его возвращения на работу, долго берегли ему «место» (он никак не мог устроиться на родине), но потом, мое письмо к нему вернулось с надписью: «Адресат выбыл…» У него было больное сердце, а дома встретили его почти враждебно, и жена и дочь…
А нас из Белово зимою направили в Сиблаг, в другую «систему лагерей», откуда вернуть нас в театр ИТК было невозможно. И.А. этапировали в лагери г. Сталинска, где на обильных женучастках он мог подобрать женсостав для нового своего театра. О нем я больше никогда и нигде ничего не могла узнать. А нас, пятерых актрис «погорелого театра», тоже разбросала судьба…
…«Амуры и зефиры все распроданы поодиночке».
Глава V
Ландыши и фиалки
(Секс в лагерях)
Рассказ
Я в мир амеб однажды низошла,
Влача изысканные покрывала,
И мне открылось в фокусе стекла
Незримой жизни мудрое начало.
Им хорошо питаться и дышать,
Не зная груза нужных нам понятий
Сначала только страшно наблюдать,
Любовь без поцелуев и объятий.
Когда майору Гепало в управлении ИТК объявили, что назначают его начальником Беловского женского лагучастка, он вспотел и из краснорожего стал белый.
— Ты человек женатый, — сказали ему, — жену, говорят, любишь, так что бабы тебе ни к чему…
— Ох, я же без матерного слова… С войны это, как присловье у меня.
— Знаем, знаем, — сказали, — отчасти поэтому и назначаем тебя к женщинам, чтоб отвык. Ведь ты же советский офицер! Культура, понимаешь… — Кто-то из товарищей глумливо посоветовал: — Н-да… Там, брат, это… как его… — вечное женственное… Там, хотя все они и б… тебе некрасиво будет. Так вот, брат, тебе совет: как захочется матюкнуться, говори вместо тех слов другие, что понежней, ну, там «ландыши-фиалки», к примеру…
Дня два дома потренируйся… Я пробовал — помогло!
Самый главный начальник, генерал, образованный, пахнущий дорогими, еще трофейными духами, тоже:
— Смотри только, Гепало, ты на фронте привык… Тут придется, товарищ дорогой, воздерживаться. Мы все, советские офицера в обществе себе не позволяем. Знаю, знаю, сам Ворошилов… Но — в обществе……Правда, в лагерях, по слухам, женщины хуже мужиков выражаются, ну а нам, советским офицерам, все же нельзя себе позволить… Уже на это жалобы от заключенных поступали. Так что слабину им не давай! Мы ведь, хотя и наказываем, но одновременно и воспитываем, — сказал генерал с полной верой в то, чем закончил речь.
Лагерный мат даже у человека привычного вызывал сердцебиение, а непривычный мог, ну, просто сомлеть, что и со мной, без шуток, бывало. Это совсем не то, когда оскорбительно ругаются, в белый свет от тягостей — так ругаться на войне научился и сам Гепало, что понятно и извинительно.
А тут мат был с остро сладострастными смакованиями срамных подробностей, своеобразное сексуальное упражнение, сублимация постоянно жгущего людей полового жара, который мог утоляться только случайно и тайно. В матюг обыкновенный — трехэтажное исконно народное унижающее выражение — вплетались виртуозно все физиологические действия человеческие, все особенности, все извращения сексуального сближения, накопленные человечеством со времен библейских. Произносились они с каким-то особым оскалом, присвистывающими звуками, со своеобразным «одесским» шиком. Так что Гепало с его простительной фронтовой привычкой на таком фоне выглядел жалким дилетантом. Почему энкаведешникам запрещалось «выражаться» перед зеками в ту пору — не знаю: может быть по инструкции писаной, может быть по неписаной этике. Правда, и среди них попадались люди порядочные, верившие, что в лагерях из г… делают людей. Иллюзия эта и заставила в общем-то неплохого дядьку-сибиряка со всеми его словечками типа «пущай», «натренироваться» так, что когда «слово» было уже возле уст, механически выпаливать, вместо него, посоветованное «фиалки-ландыши». А так как майор плохо произносил звук «л», у него получалось: «уандыши и фияуки». Так и прозвали его между собою дюжие блатные девки и похотливые лагерные бабы.
В те годы входило в моду слово «культура», «культурненько» (быть может, после немецкого презрительного о наших привычках «никс культура»). И слова «цветочные», казалось ему, как нельзя лучше подходили к женскому обществу, в которое он попал. Слова эти как бы демонстрировали его собственное душевное изящество и тонкий вкус. По своим эстетическим потребностям он всегда напоминал мне лакея Видоплясова из Достоевского, мечтавшего фамилию свою поменять на «Эссбукетов».
Вот образец его разговора со мною. Я пришла против чего-то протестовать и обронила фразу о том, что буду жаловаться.
— Жалиться? Жалиться вам, заключенным, фияуки-уандыши, конечно, разрешено, ландыши-фиалки. Но только вот от чего я тебя, Борисовна, предупрежу, — майор опустил веки — закрою я, к примеру, ландыши-фиалки, дверь да подзову надзор, а завтра, фиалки-ландыши, никакая ваша медицинская комиссия не сможет, ландыши-фиалки, установить, отчего ты умерла скоропостижно, фиалки-ландыши. Я, не бойся, этого не сделаю, как человек культурный, но упреждаю тебя «тет на тет». Понятно?
Мне понятно, и я больше никогда не угрожаю никому из своих палачей, что буду на них «жалиться». Да и знакомство с врачихой Верой Ивановной в Анжерке мне это постоянно напоминает.
Во второй приезд в жензону Беловского лагеря я одно время работала завбаней и прачечной. Приходит майор, постоянно купавшийся в лагерной бане. Гепая самодельной тросточкой — он с ней не расставался — по голенищам, свободной рукою картинно избочась о бедро, как Денис Давыдов на портрете Кипренского, он обращается ко мне:
— Слушай, Борисовна, исделай-ка мне каменку! — Выясняется, я не знаю, что такое он просит. Каменка в моем представлении — имение одного из декабристов, о чем я и заявляю.
— Эх, чему вас в институтах учили! Ландыши-фиалки! — вздыхает он и объясняет, что каменка — приспособление в банях, чтобы париться.
Я начинаю таскать глину и кирпич, он, гепая стеком, наблюдает мои усилия. Потом, разувшись, мы оба начинаем месить глину и делать кирпичную кладку, которую в раскаленном виде надо поливать водою, чтобы она испускала пар. Вот тут и рассказывает он мне доверительно, как после СМЕРШа попал в начальники жензоны. Война, проклятая, виновата. Он с детства тяготел к культуре, изяществу языка, тяготился его простонародной грубостью. Ведь грубые слова: Ж — … Г… — можно сказать иначе (я давлюсь от смеха и припоминаю старушку-мать «ответственного товарища», встреченную однажды в поезде, — она считала слово сс-ть неприличным, а си-ть — вполне «интеллигентным»). Припоминается и красавчик Фалалей из «Села Степанчиково», раздражавший господ выражениями типа «натрескался, как Мартын мыла». Майор негодует на Есенина, употреблявшего в стихах «грубые» слова. К счастью, Маяковского майор не знает. Хлюпая и чавкая волосатыми ногами по глине, майор рассказывает, что шесть раз «смотрел» оперу «Евгений Онегин» в порыве эстетических исканий понять, почему это хорошо. И понял, все-таки! Хорошо! При моих рабочих промахах все повторяет: «Эх, уандыши-фияуки, чему вас в институтах учили!». Не без яда замечаю, что учили с первого раза понимать прелесть «Евгения Онегина». Остроумия едкого этого замечания он не воспринимает. А мне его и жаль даже: как беспомощно хороший дядька выползает из невежества.
При воспоминании о Гепало припоминается и еще один лагерный офицер. В Белове — в первый период пребывания там — начхоз, лечившийся у нас амбулаторно, стал «приударять» за мною. Тайно, разумеется, ибо любое общение с заключенными было весьма и весьма наказуемо, даже «сроком». Немолодой, он очень гордился званием лейтенанта: «Я — ахвицер!» Склоняя меня на тайную с ним связь, он говаривал, бывало, что по окончании моего срока женится на мне — мужа мне — де все равно не дождаться, не видать. А за мой срок он на своей службе начхоза прикопит на постройку домика, в котором «будем доживать старость». Чтобы жениться на бывшей политзаключенной, ему придется выйти в отставку, но ради меня он готов. На мои отказы от столь ужасной для меня перспективы — я все это старалась обратить в шутку, ибо ссориться даже с начхозом было опасно — начальство! — ахвицер НКВД сказал как-то: