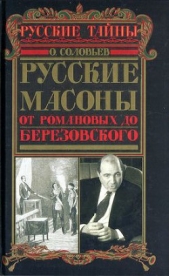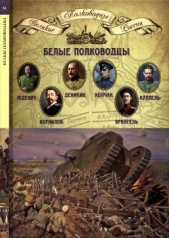Петрашевский

Петрашевский читать книгу онлайн
Книга посвящена жизни и деятельности лидера знаменитого кружка «петрашевцев».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Толль получил 2 года каторги.
Плещеев был назначен в Оренбургские линейные батальоны, Кашкин — рядовым на Кавказ. Пальм отделался переводом тем же чином из гвардии в армейские части.
Тимковского упрятали на 6 лет в арестантские роты, Европеуса, без лишения дворянства, отправили на Кавказ в линейные батальоны рядовым.
Черносвитова, хотя и с пенсией, — в Кексгольмскую крепость «на житье».
Его оставили в «сильном подозрении» судебные власти, а Спешнев и Петрашевский до конца подозревали, что он шпион.
Окончился первый акт трагедии. Трагедии зарождавшегося, но еще не созревшего революционного демократизма. Еще разночинец не вытеснил со сцены революционной борьбы дворянина, но уже вслед за Белинским он подымал свой голос. От дворян-революционеров «петрашевцы» унаследовали непоследовательность, колебания. Они еще метались между признанием необходимости реформ и надеждами на крестьянскую революцию. Зарождавшийся революционный демократизм толкал их к организации социалистических кружков, и они положили им начало. Они восприняли идеи социалистов-утопистов, но в отличие от своих учителей не прекраснодушествовали, а готовились к революции.
Эти метания, эту непоследовательность порождала переходная эпоха, когда рушилось старое, феодальное, когда развивающийся капиталистический уклад подрывал основы крепостничества. Но еще не создал условия для появления промышленного пролетариата.
И еще не загремел «Колокол» Герцена. Еще Чернышевский только засел за алгебру революции.
Глава десятая
Ни толчки на ухабах, ни вскрики ямщика, ни даже колючий репейник снега, бьющего в лицо, не могли вывести Михаила Васильевича из неподвижности.
В последний раз мелькали перед ним окраины Петербурга.
Он еще не пытался заглянуть в будущее, но и не рвался назад к прошлому. Он просто на время сделался частью кибитки, несущейся, подпрыгивающей, ввинчивающейся в бескрайную, унылую, белую пелену. От толчков позвякивали кандалы на ногах да жандарм в сердцах поминал всю родословную.
А лошади все быстрей и быстрей перебирали ногами.
И казалось, что Петербург, крепость, Семеновская площадь, друзья просто пригрезились, как сон, как тень чьей-то чужой жизни. А он?
Он вечно скакал по ухабам и видел перед собой согнутую спину ямщика да белый хоровод вокруг.
Шли часы, мелькали деревни. И солнце давно уже нагнулось над макушками сосен. Студеное, зловещее. По снегу продернулась вечерняя синь. Замерзли руки. Тысячи иголок клевали сведенные судорогами ноги. Снег залепил лоб, брови, бороду.
А он все еще бесчувственно, почти ничего не видя, смотрел в спину ямщика.
Без мысли, без желаний.
Лошади стали. Первый станок.
Сколько часов минуло, Петрашевский не знал. Не считал. Голос жандарма напомнил, что он все еще живой и нужно зайти погреться.
Петрашевский пошевелился и застонал.
Жизнь возвращалась нестерпимой болью в ногах, руках, спине.
Его чем-то кормили. Кто-то швырнул полушубки в угол.
Петрашевский уснул.
И только во сне к нему явилось прошлое. Такое зримое, недавнее, трепещущее. Оно наплывало картинами, в которых не было ни кандалов, ни жандармов, ни этой режущей боли измученного тела.
Но был все тот же бесконечный снег и зимнее не греющее солнце. Он слышал цоканье копыт, посвист полозьев, первые утренние звуки проснувшегося леса.
Стучался Дятел. Пели синицы.
А над головой дятла ломали шпату…
Пение синиц? Как кандальный звон!..
И нестерпимо пахло овчинами. Петрашевский задыхался.
«Все, все горит, Петербург, фаланстер, Россия…»
Проснулся, резко привстал. Прислушался. Острая боль пронзила поясницу, ноги. В нос ударил кислый запах.
Где-то далеко-далеко, не приближаясь и не замирая, побрякивал колокольчик.
И тишина, тишина, тишина!
Сон отнял остаток сил. И теперь нахлынули мысли о будущем.
Сибирь. Рудники…
Ночь тянулась нескончаемо. Петрашевский забывался на минуты, и тогда грезился Петербург. Лица друзей. Недругов. Знакомых, чужих.
Острая боль прогоняла грезу.
Ночь! Она могла свести с ума.
Михаил Васильевич замечал, что начинает галлюцинировать. Как тогда, в крепости. Ему слышался крик толпы: «Колдуна поймали!» Впотьмах на него глядели пустые глаза Гагарина. Протягивались к горлу руки Набокова…
Когда же рассвет?
И снова ухабы, копыта лошадей, армяк ямщика.
И снег, снег, снег!
Чем дальше от Петербурга, тем больше снега, тем глубже он. Несколько дней не показывалось солнце. И снег справляет хороводы под напевы ветра. Он крутится легкими змейками. Взмывает языками белого пламени. Обжигает лицо. Лижет стволы деревьев…
В «хороводе» промелькнули села, заспанные городишки. Петербургская, Московская, Ярославская губернии — как страны!..
Возок застревал в сугробах. Петрашевский помогал вытаскивать его и горько смеялся. Он вытаскивал собственный катафалк, чтобы скорей, скорей добраться до могилы.
Москва осталась далеко в стороне. А ямщики гнали и гнали. Чаще меняли лошадей, короче становились минуты отдыха. Воспаленные глаза все реже и реже подымали занавес век.
Деревни, города?
А, пусть себе! Они все на одно лицо — деревянные, пустынные, ленивые.
Иногда только вспыхивало любопытство. Ведь рождество, и в деревнях пьяное веселье, гульбища. Целыми селами сбегаются крестьяне смотреть на каторжника. Дети часто принимают за Деда Мороза, бегут за возком, что-то кричат. Взрослые жалостливо качают головами, бабы кидают пироги.
А потом опять белое молоко снега.
Одиннадцать дней, тысячи верст.
И, наконец, Тобольск — столица каторжного края.
Оживились жандарм и фельдъегерь. Они довольно пофыркивают, как лошади, почуявшие конец пути.
На высоком берегу Иртыша засветились маковки церквей. Выплыл купол кафедрального Софийского собора. Но глаза ищут не приют для богомольцев, а приют для отверженных.
Вот они, белые стены острога.
Приказ для ссыльных — небольшая бревенчатая изба с маленькими оконцами, длинными лавками. Затхлые молодые люди в невообразимо заношенных мундирах, как будто их не снимали с плеч по крайней мере полстолетия, полудремлют, ничего не ожидая, ничему не дивясь.
Петрашевского сдали с рук на руки под расписку, как вещь. Жандарм вручил чиновнику те несколько рублей, которые составляли весь капитал Михаила Васильевича. Чиновник пересчитал замусоленные рубли, отдал владельцу, но предупредил, что в остроге их все равно отберут и лучше, если он не будет сопротивляться, не станет протестовать.
Смотритель острога тщательно ощупал каждую складку одежды и несколько раз пытался заглянуть оз рот.
Потом позвал кузнеца.
Сколько дней он не менял белья! Ноги стерты оковами в кровь. Наконец с него спадут кандалы…
Кузнец еще крепче затянул железные полукружья.
Чашка щей, кусок хлеба и ломтик говядины. Его не удивить этим! Пусть кто-то вспоминает Петропавловку, пусть кто-то подражает ей!
23 декабря открытые сани с жандармами и фельдъегерем впереди увезли из столицы Спешнева, Григорьева, Львова, а 24-го в Сибирь отправили Дурова, Достоевского, Ястржембского и Толля. Момбелли заболел и был оставлен в крепости для лечения.
Они ехали след в след, по свежему следу Петрашевского. Из отрывочных разговоров на станциях узнавали, что Михаил Васильевич только-только проехал.
Потом, ближе к Уралу, ударили 40-градусные морозы, и стало невозможно скакать по 10–12 часов в сутки. Отсиживались в станках, часами бездумно смотрели, как пляшут огоньки в русской печи. Болтали без устали, изголодавшись по слову, дружеской беседе. Фельдъегерь Достоевского и Дурова оказался добродушным стариком. Из открытых саней он пересадил осужденных в крытые. Незаметно приплачивал своими деньгами, чтобы сократить расходы каторжан.
Ямщики, по случаю праздников, были в армяках серо-немецкого сукна с алыми кушаками и совершенно пьяные.