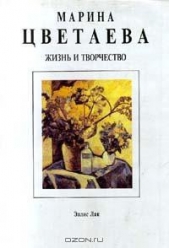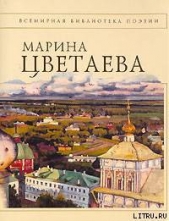О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери

О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ИЗ ПИСЬМА А. К. ТАРАСЕНКОВУ
7 февраля 1956
…Спасибо за Сонечку. [57] Мама очень любила ее в «Белых ночах», только она эту самую «mise en scène» [58] помнила несколько иначе, чем Яхонтов рассказывает, — не сидела Сонечка в кресле, а стояла, опираясь обеими согнутыми в локтях руками о спинку стула, так, как обычно о подоконник опираются, выглядывая наружу, знаете? и рассказывала, чуть покачиваясь, и все были не то, что очарованы — зачарованы! Тут где-то рядом с нами живут ее родственники, или близкие друзья, от которых я, весной 1937 г., узнала о ее смерти.
Кто ее помнит сейчас? Ее час еще не пробил, она пока живет на дне железного сундучка, как еще не проклюнувшееся зернышко собственной славы — в маминой повести. В один прекрасный день они воскреснут обе — мама и Сонечка, рука об руку. И опять все их будут любить. Не скоро приходит эта, самая настоящая, посмертная любовь, так называемое «признание», куда более прочная и непоправимая, чем все прижизненные.
Непоправимая, неутолимая наша любовь к Пушкину и к Маяковскому, и многим поныне живым — но рукой не достанешь и голоса не услышишь.
В прошлом — 1956 — году, зимой, кажется, зашла на минутку к Эренбургу по делу, потом, поговорив с ним, заглянула к Любови Михайловне — та позвала меня. И говорит: «Не верю я в предчувствия, приметы. А ведь бывает что-то такое в жизни. Давным-давно, еще до отъезда из России Марина подарила мне браслет, и носила я его всю жизнь (и тут же, простодушно): не потому, что мне его Марина подарила, а просто он был мне по руке и нравился. Браслет серебряный, литой, тяжелый — сломать такой немыслимо. И вот как-то — захожу в магазин, и что-то со звоном падает на пол; смотрю — у моих ног половина браслета, вторая осталась на руке. Подняла, посмотрела, через весь браслет — косой излом. Сломался у меня на руке! Стало мне как-то не по себе, волей-неволей запомнился этот день, число — 31 августа 1941 года. А через некоторое время Эренбург узнает — именно в этот день, этого числа погибла Марина. Теперь я хочу отдать Вам этот браслет — я его не чинила, оставила так; хотите — храните его в таком виде, хотите — почините и носите»…
И Любовь Михайловна подала мне тяжелый, литой, серебряный браслет, знакомый мне с детских лет, — вернее, не браслет, а два его обломка, и линия излома наискосок, с резкими углами, как молния…
<Из тетради. 1957 г.>
С Ахматовой я познакомилась у Пастернака, в Переделкино, в январе 1957 г. Был ясный, очень солнечный, очень морозный день, я долго плутала по поселку, по унаследованной от мамы привычке (при чем тут «привычка»? Штамп!) неспособности ориентироваться и запоминать места.
Против обыкновения очень ласково встретила меня Зинаида Николаевна, обычно такая равнодушно-грубая, невнимательная (Борис утверждает, что она совсем не такая, да и я говорю про чисто внешнее впечатление). Была она оживлена, что очень ей идет и редко с ней случается, и вообще все было празднично — ярко-голубой день за огромными окнами, чудесная елка до потолка в столовой.
Говорила 3. Н. про Бориса и про «Доктора Живаго», о том, что тревожно ей за того и за другого и что ждет его с этой книгой много горя и разочарований; что окружающие его друзья, в глаза захваливающие, а за глаза хающие книгу, сбивают его с толку…
Потом появился Борис, гулявший как раз с некоторыми из друзей, en question, [59] в частности, с Ливановым. Ливанов, как обычно, громогласен и пьян. Евгения же Казимировна модна сверх всех, допускаемых цензурой и здравым смыслом пределов: волосы крашены в бледно-розовый цвет, в ушах — пластмассовые украшения величиной с доброе блюдце, узкие брючки на ногах Россинанты, огромные солдатские бутсы. Волосы острижены так причудливо, что кажутся побитыми молью — да Бог с ней! Еще кто-то был с ними, сейчас не помню — кто. Борис выглядел чудесно, милый, смуглый и седой, с золотыми глазами. Мы с ним расцеловались, — а целуется он всегда очень охотно, от чистого сердца, чмокает громко и со вкусом и друга и недруга в обе щеки (то, что французы называют des baisers de nourrice [60]). Прелестное у него лицо — когда-то был он юным островитянином жгучей масти, теперь стал настоящим «последним из Могикан» — бронзоволиким вождем исчезающего племени (это я не фигурально выражаюсь, в самом деле он похож на индейца!). Очаровательна смесь гордости и застенчивости на его лице, когда говорит о чем-нибудь особенно ему дорогом или о ком-нибудь.
Немного посидели все вместе, поговорили о каких-то пустяках — потом, видим, во двор въезжает такси, и через минуту в комнату входит очень большая — полная, высокая — женщина, уже немолодая, с лицом спокойным — величественным? — не совсем то слово — и благосклонным, лишенным той лихорадки, того огня, что помним мы по портретам Анненкова, — Ахматова. Борис знакомит нас, мы переходим в другую комнату, где не так светло и не так парадно, как в столовой, и как-то чинно и принужденно рассаживаемся на стульях, несколько поодаль от стен — вот именно это и создает всегда какую-то принужденность.
О чем шел разговор? Уговаривали Анну Андреевну почитать отрывки из ее прозаической работы о Пушкине, которая должна была появиться в, кажется, «Литературном Архиве» (не знаю, появилась ли), — она отказывалась — без кокетства и с казавшейся привычной — скукой; говорили о стихах — Борис хвалил Анну Андреевну, Анна Андреевна хвалила Бориса, а мы, присутствующие, хвалили обоих. Ахматова сидела спиной к окну, статная, массивная, в черном платье, перебирала на груди бусы. Потом Ливанов смешно рассказывал об очень давнишнем вечере грузинской поэзии, и Борис хохотал ужасно, а А. А. улыбалась отдаленно и снисходительно; всем по очереди глядел в рот, раз навсегда улыбаясь, чинный мальчик Андрюша [61] — фамилию его не помню; он пишет стихи под Пастернака, а Пастернак, не видя заимствований и влияний, чуя лишь родство, хвалит его.
Потом 3. И. пригласила к столу — огромному столу во всю огромную столовую; кто же был за столом? 3. Н., Борис, старший Нейгауз, младший, Станислав, с женой, А. А., Федин, Ливановы, Андрюша и еще кто-то; ели, пили, бесконечные тосты всех присутствующих за всех присутствующих, причем уж до того хвалебные, что хоть под стол полезай — неловко! А. А. оказалась обладательницей прекрасного аппетита, развеселилась и, не теряя величавой повадки, вдруг стала совсем простой. Вообще, она оказалась более простой, пожилой, в меру добродушной и в меру располневшей, чем можно было себе представить по рассказам; но — ни огня, ни даже тепла, зоркий, холодноватый взгляд на подвыпивших, душа нараспашку, окружающих.
Помню, под конец обеда Борис читал свои последние (тогда) стихи, и можно было только ахать от изумления перед неиссякаемым, неугасимым, широким, вольным даром. Так начинают писать, когда дано все и ничего еще не растрачено, и экономить нечего, и нет вокруг тебя ни тупиц, ни завистников, и жизнь еще — «сестра моя» и не научила взвешиванию и оглядке. Но вся эта широта, глубина и вольность, даже легкость необычайная, когда тебе за шестьдесят и жизнь — сплошные препоны!
Пастернак всегда необычен и полон какой-то особой, только ему присущей теплоты, но когда начинает стихи читать, то всегда всех вышибает из колеи, заставляет разевать рот и разводить руками: ну как же вдруг вот одному столько дано и это данное он еще и еще раздает и, раздавая, еще богаче становится… Ливанов слушал, вытирая привычные пьяные, умиленные слезы, Андрюша с умилением, но без удивления — так благонравного католического мальчика обрадует, но не удивит, если вдруг с небес спустится Богородица; Богородица существует, существует и он, он хороший, и ничего нет удивительного в том, что она ему явилась; так хорошо, глубоко слушал Нейгауз, склонив лохматую седую голову; ему должен быть особенно близок рожденный из музыки Пастернак; Анна же Андреевна слушала, прикрыв тяжелыми веками зоркий взгляд, и внешне оставалась совершенно impassible. [62] Каково ей, иссякшей, живущей собственным отраженным светом, было слушать?