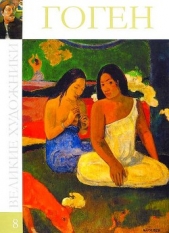Поль Гоген

Поль Гоген читать книгу онлайн
Среди ведущих мастеров постимпрессионизма Поль Гоген занимает особое место и как личность, и как художник, творчество которого получает самые противоречивые оценки специалистов. Свою лепту в «гогениану» внес и известный французский писатель и искусствовед Пьер Декс, автор работ о Делакруа, Мане, Пикассо и др. В этой книге Декс сообщает много новых фактов из жизни Гогена и исправляет ряд ошибочных положений своих предшественников — биографов и исследователей творчества художника.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Накопившиеся к этому моменту неудачи и непрестанно лелеемая мечта о новом путешествии в неведомые края объединяются в его живописи и выливаются в решительное неприятие современной жизни, которую Гоген считает насквозь лживой. И здесь он вновь приближается к Винсенту. Лучше всего это видно в произведении, имеющем отношение к их с Винсентом визиту в музей Монпелье, где они видели картину «Здравствуйте, месье Курбе». В «Здравствуйте, месье Гоген» автор предстает закутанным в серый плащ-крылатку, на ногах у него тяжелые башмаки-сабо. Он подходит к изгороди, из-за которой его приветствует женщина, стоящая к зрителю спиной. В небе тяжелые грозовые тучи. Гоген сделал свое лицо таким пустым, таким «безумным», какое, он предполагал, было у Винсента в момент приступа в Арле год назад. Он явно хотел противопоставить свою драматическую ситуацию тому, что происходит на холсте Курбе. Огромное расстояние отделяет Гогена от торжествующего «Здравствуйте, месье Курбе», такого великолепного в ярком солнце Юга. Неужели эпоха Курбе, эпоха ликования в живописи, закончилась?
На какое-то время да. Существуют пейзажи Гогена, датированные тем же 1890 годом, но они явно были написаны в другое время. «Ферма в Ле Пульдю», «Поля в Ле Пульдю», «Картофельное поле» дышат несравнимой свежестью, точностью рисунка и счастьем от владения кистью. Все это выше клуазонизма, синтетизма, вообще всех измов, вместе взятых, и любых теорий. Это вновь обретенная радость писать. Отмечая, что Мейер де Хаан использовал, хотя и немного под другим углом зрения, множество его сюжетов, как не прийти к выводу, что перед нами произведения учителя, наставляющего ученика? Возможно, Гогену необходимо было оказаться в подобной ситуации, чтобы забыть все остальное и отдаться живописи. Эти пейзажи нельзя отнести к зиме 1889/90 года, когда он жил в Ле Пульдю, скорее, они написаны в конце весны или летом 1890 года, когда Гоген вернулся в Бретань.
Действительно, той зимой, несмотря на необычайный расцвет его творчества со времени выставки в кафе Вольпини, Гоген все чаще задавался вопросом: не лучше ли «размозжить себе голову»? «Есть от чего прийти в отчаяние, — писал он Шуффу. — Я не курю, а это для меня большое лишение, и сам тайком стираю себе кое-что из белья, словом, кроме самой простой пиши, я лишен всего. Как быть? А никак. Просто жить, подобно крысе на бочке посреди воды… Если бы мне удалось попасть в Тонкин, я за два года кое-как встал бы на ноги, чтобы заново начать борьбу, а иначе… не решаюсь об этом думать». По его словам, Мейер де Хаан и Мари Анри не испытывали к нему особого расположения. Но когда он нуждался в помощи, то умел вызвать сочувствие. А кто на его месте поступил бы иначе? Мы постепенно учимся отделять тяготы и суету жизни от погружения в искусство. Но бездна отчаяния, разверзшаяся перед Гогеном в конце первого пребывания в Ле Пульдю, без всякого сомнения, стала одной из наиболее непреодолимых. Достаточно сравнить 1889 год, необычайно богатый в творческом плане, с 1890 годом, полным неопределенности, тщетных ожиданий и разочарований, редких творческих удач и невероятной бедности, когда приходилось жить чем и как придется, чтобы понять: на этот раз Гоген действительно был близок к тому, чтобы махнуть на все рукой.
И все же Шуфф услышал его мольбы. (Если у него и были когда-то причины для ревности, они были забыты, тем более, как мне кажется, Купер поторопился бросить Гогена в объятия мадам Шуффенекер.) Он оплатил дорожные расходы друга, и 8 февраля 1890 года Гоген вернулся в Париж.
Глава 3
Приближение отъезда
Приободренный возвращением в Париж, Гоген снова ожил. Было впечатление, что он не так сильно упал духом, как утверждал в своих письмах из Ле Пульдю. Отныне Гоген безраздельно царствовал в новом доме Шуффа, расположенном на улице Дюран-Клэй, на окраине Парижа, у самой линии Западной железной дороги. Купить его удалось благодаря кругленькой сумме, полученной хозяином от ликвидации одного дела. По отношению к Шуффу Гоген стал еще более требовательным и надменным, чем раньше. Мечты уносили его в совсем другой мир. Письмо к Бернару, написанное перед возвращением в Париж, дает представление о его умонастроениях: «Лишь на мгновение касаешься неба, тотчас же от тебя ускользающего, — зато эта мелькнувшая перед глазами мечта есть нечто большее, чем вся материя… Мы завязли в трясине, но мы еще не мертвы. Что касается меня, то моей шкуры им пока не получить. Только бы добиться того, о чем я в настоящее время хлопочу — хорошего места в Тонкине, где я смогу и писать и делать сбережения. Весь Восток — великая мысль, начертанная золотыми письменами на всех произведениях искусства, это стоит изучать, и мне кажется, я получу там новую закалку. Запад прогнил в настоящее время, но все, что есть в нем мощного, может, как Антей, обрести новые силы, прикоснувшись к земле Востока. И через год или два оттуда возвращаешься окрепшим…»
Но мечта о Тонкине, как и то, что она в себе заключала — освобождение, тоску по неведомым странам и тягу к примитивизму, — рушится, как только Гоген сталкивается с препятствием в лице чиновников министерства. К тому же ему никак не удается уговорить Шуффа основать «мастерскую в тропиках». И вот он пригвожден к Парижу, как раньше к Ле Пульдю, и вынужден, чтобы прокормиться, прибегать ко всяческим уловкам, например, выправлять работы учеников в одной из мастерских Монпарнаса. В начале года Винсент снова предложил работать вместе, но Гоген не имел ни малейшего желания еще раз испытать то, что произошло в Арле: «Он сумасшедший! Он покушался на мою жизнь». В ответном письме это выглядело так: «Признаюсь вам, я нахожу совместную жизнь вполне, вполне возможной, но необходимо принять некоторые предосторожности. Ваше болезненное состояние еще не совсем прошло, вам требуется покой и хороший уход. Вы сами говорили, что во время поездок в Арль вас беспокоят воспоминания. Не опасаетесь ли вы, что при виде меня произойдет то же самое?»
В итоге, Гоген решил, что нашел хороший выход из создавшегося положения: «Думаю, вполне подойдет Антверпен. Почему бы не открыть там мастерскую под моей фамилией? У нас там есть связи, наши имена знакомы „Группе двадцати“, это могло бы подойти… По моему мнению, импрессионизм почувствует себя на своем месте во Франции лишь по возвращении из-за границы…» И в доказательство добавляет: «Недавно в Копенгагене прошла выставка моих произведений, от которых там ранее отказывались. Так вот, она имела большой успех. Это свидетельствует о том, что первая работа, созданная мной, бросила семя, которое наконец дало ростки». (Эту выставку, проходившую с середины октября до середины ноября, организовала Метте из принадлежавших ей полотен Гогена, Мане, Дега, Сезанна, Писсарро, Сислея и Гийомена.)
Понятно, что Гогену хотелось извлечь из этого события пользу. Но дело в том, что «Группа двадцати» пригласила участвовать в выставке только Винсента. К тому же положение Гогена в Париже стало очень шатким. Орье при поддержке Эмиля Бернара в первом номере нового журнала «Меркюр де Франс» опубликовал большое исследование творчества Ван Гога. Как подчеркивает Ревалд, этот символистский журнал хотел представить Винсента художником-символистом. Но статья поразила читателей совершенно неожиданным аспектом: «Выбор сюжетов, постоянное обращение к самым сильным художественным средствам, вечный поиск способов для наиболее выразительного изображения любого предмета — все это непрестанно убеждает нас в его глубокой, почти детской искренности. Для его творчества в целом характерна какая-то щедрость, избыточность — силы, нервности и необузданности самовыражения… Он действительно из породы сильных художников, с замечательными мощными руками, склонный к неожиданным нервным срывам истеричной женщины, с душой блаженного. Он настолько выходит за рамки нашего жалкого сегодняшнего искусства, что напрашивается вопрос: узнает ли он когда-нибудь радость признания?.. Винсент Ван Гог, такой простой и одновременно слишком тонкий для понимания современного буржуа, не будет полностью понят никем, кроме собратьев-художников и редких счастливчиков из народа — самого простого народа…»