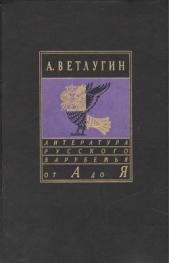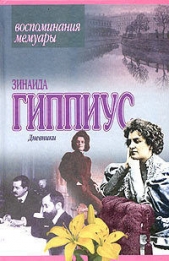Дневники 1920-1922
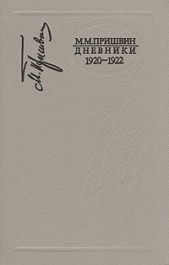
Дневники 1920-1922 читать книгу онлайн
В 1920–1922 гг. М. М. Пришвин жил в основном в Смоленской губернии, был школьным работником, занимался организацией музея усадебного быта. Он пристально анализирует складывающуюся новую жизнь, стремясь «все понять, ничего не забыть и ничего не простить». Наблюдения этих лет стали основой повести «Мирская чаша» (1922).
Первая книга дневников М. M. Пришвина (1914–1917) вышла в 1991 г., вторая книга (1918–1919) — в 1994 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тетерка с квохтаньем перелетела в болото и уводила за собой все дальше и дальше в глубину недоступных болотистых хвойных лесов бормочущих косачей. В Чистике все еще сильно бормотали. Утки орали все утро на разливе. По архиерейскому времени был десятый час.
28 Марта. Ночь была чистая, лунная, с морозцем меньше вчерашнего. Но заря запала в хмарь и на восходе дул противный холодный ветер. Сильно орали утки. Захлопали крылья в лесу, и два тетерева в полумраке сели возле самого моего шалаша. Треснул сухой сучок, они улетели. Токовал внизу бекас (ка-чу-ка-чу). Протянули три гуся.
Когда стало совсем видно, заяц по морозу с крепким туканьем пробежал, спеша, мимо моего шалаша через поле в другой лес: загостился, очень спешил.
Когда солнце выбилось из хмары, откуда ни возьмись два черных, матерый и поменьше, с гуркованием обежали Левино место (Лева продремал) и расположились к бою шагах в 150 от меня, матерый бился снисходительно, младший скоро убежал, сел на дерево, а сильный петух, распустив перья, стал кокетничать с солнцем. Сколько в его движениях чего-то ненужного практически и только для красоты, для спектакля и рыцарства. Говорят, это свойственно романским народам: рыцарство, зрелище и пр. И то же самое проделывают петухи: как они вытягиваются, растопыривая хвост, повертывая его во все стороны и как вдруг поднимаются во весь рост, подскакивают, выкрикивают свой боевой лозунг: чувш…ш…ш! на бой, на бой! всех зову на смертный бой! В лесу откликаются рыцари теми же звуками, но очень холодно, ветрено и хмаро. Солнце скоро совсем исчезло, и белая муть от неба и до земли прочно, кажется, на весь день засела.
После обеда, когда хорошо ободнялось и потеплело, пошел первый теплый дождь, над нашим двором летели с криком кряквы. Был слышен первый гром.
29 Марта. Оледенило. Сквозь тучи пробует солнце выйти и не может.
Так было весь день. К вечеру солнце укрепилось. Сказали, что начали тянуть вальдшнепы. Я вышел на вечернюю зарю, но солнце село в тучу, стало холодно, неприютно, и я вернулся, чтобы не пропустить ужин. Видел цаплю.
Пусть мои судьи находят смягчающие мою вину обстоятельства, я сам могу судить только себя и как существо совершенно свободное: не внешние обстоятельства причина моего несчастья, а мое неуменье — причина несчастных внешних обстоятельств.
30 Марта. Ночью был дождь, и утро настало безморозное, теплое, влажное. Небо все в пестрых облаках, местами синими грядками, будто вспаханная нива. Утром до чаю я прошелся по извилинам речки, три пары крякв одна за одною поднимались с криком, по одной я неудачно стрелял (далеко). Слышал при слиянии двух речек в кустах первое пение воды. Жаворонки доверчиво спускались почти к самым моим ногам, другие поднимались и пели над головой. Старые березы у дороги стояли, как дойные коровы, возле каждой почти было ведро, чугун или корыто, наполненные за ночь березовым соком. Грачи всей своей деревней кричали, заглушая отдаленное токование тетеревей. Дерзкий свистун скворец свистал. Красовались на липах полногрудые снегири. Сегодня было первое неморозное оживленное утро.
Сколько ни наблюдаю природу, и все для меня остаются неизвестными некоторые голоса в лесах, в полях и на болоте, и неизвестные цветы я постоянно нахожу всюду. А естественник все знает: мне кажется, тогда неинтересно.
Кириков был сапожник, жил при усадьбе, земли у него не было, потому дети в земледельческой работе не использовались, и надо было их учить, и выучились.
День разгорелся до +10 в тени, и стало видно, до чего стройно-прекрасная вышла весна в этом году. Мы стояли на крыльце с учениками, увидели большую белую птицу, вдруг белое оторвалось и полетело вниз, а из-под него вылетела галка, оказалось, эта галка тащила газету в гнездо.
— Вот какой день! — сказали, — галка газету тащит в гнездо.
— Такие газеты, — отозвался другой, — только галкам на гнездо.
— «Беднота», — прочитал третий название упавшей газеты.
После обеда пошел в Хотунь ждать вальдшнепов. Дорога местами уже подсыхает. Кое-где в лесу только осталась на дороге твердая, как камень, ледяная корка. Орех цветет, ольха. Комарики мак толкут. Заяц выскочил совсем еще белый, Флейта его долго, упорно гоняла и бросила на четвертом кругу. Заря была совсем весенняя, пел черный дрозд и пеночки и должен бы вальдшнеп быть непременно, а вот не было. После заката кричала сова.
Психология ворчания — психология бессилия. Злость — это найденный выход бессилию. Напротив, доброта — это цвет силы.
Последняя мужняя раба лучше, чем дешевая блудница (это о России царской и советской сказал некто).
1 Апреля. На перевале рассвета вышел на Рясну. Сильно подмостило, по лужам идешь, как по стеклу, но Рясна бойко бежит. Собаки сковырнули уток, их крик долго приближался ко мне, и вот они взлетели с воды передо мной, пара чирков, мое новое ружье опять само хлопнуло (спуск слаб). На рыже-сером непаханом пару вскочил русак. Солнце всходило кровяно-красное, вся болотная долина засверкала своими замерзшими лужицами, как стеклами. На канаве с криком от собаки поднялись кряквы и прямо на меня, но оглядели, завернули растерянно, я не сдержался и, хотя было очень далеко, пальнул зря два раза. От выстрелов поднялось множество чибисов. Тетерева бормотали слабо в Чистике, сильнее на Пузиковском поле. Один косач, видно, оттоковавшись на Мартынкове, возвращался в Чистик. Видно, или не будет совсем общего тока, или будет позднее.
В восемь (по-старому) солнце грело совсем хорошо, в аллеях усадьбы светло-празднично, тепло, поет множество зябликов, много чижей.
После обеда явился Лева с кряковой уткой. Построил шалаш у Рясны, посадил Леву, а сам пошел на тягу, но испугался тучи с запада, грома и вернулся домой. Лева поздно пришел и рассказывал, что горностай кинулся на нашу утку, что дикие кряквы прилетели и вместе с нашей орали весь вечер.
Какой вышел день необыкновенный, словно мирно разделенный зимою и летом, вместивший в себя и зиму, и весну, и лето, и осень: до восхода морозило и ковало воду, как зимой, когда взошло солнце и засверкали, как стекла, все лужи болота, было, как осенью в первые морозы, и только пение весенних птиц давало знать о весне, потом, когда разогрело, сразу наступила Апрельская весна, и к вечеру стало душно, как летом (10° в тени), надвинулась синяя грозовая туча и шел слегка (тучу пронесло) теплый летний дождь.
2 Апреля. День пестрый, то солнце, то тяжелые тучи, и град, и крупа, и дождь. В Шарапинской роще стерег вальдшнепов, не тянули, и оборвалось ожидание дождем.
Слышал о подробностях взятия Кронштадта. Видимо, в обществе рухнули все надежды на обновление жизни. Интересны эти надежды народа на какую-то внешнюю силу, и в то же время полное «непротивление злу».
3 Апреля. Мертвый день: холодно, пасмурно, ветер, то дождь, то крупа, то хлопок снега пырхает.
Искусство занимается избытками жизни (Гончаров, Литерат. вечер), ненужным. Там, где жизнь состоит только в нужном, — не может быть искусства. И потому у нас теперь его быть не может.
<Далее текст, зачеркнутый М. М. Пришвиным>: Как бедна жизнь Пушкина! И еще вот что: создав, как никто в России, он под конец не знал, чем жить. Наивному сознанию кажется это очень странным, кажется, вот поработал сколько, и как хорошо оглянуться на сотворенное и сказать: как хорошо! Сказать: «Я памятник себе воздвиг» и тут же искать смерти, как будто всего отдал себя и ничего от себя себе не оставил и нечем жить стало. Стало быть, есть какая-то деятельность вся на благо другим и только во вред себе: стало быть, искусство во вред себе? Тут обман: думается, все для себя, но потом оказывается, что для себя-то как раз ничего и не делал. И лишаешься моральной заслуги: ведь для себя старался! Раздать все свое богатство и остаться ни с чем? Нужно раздать во имя Христа, и тогда остается Христос. Пушкин же просто роздал на великом пиру и, раздав, увидел себя бедным и одиноким. Гоголь потерял себя в этом вопросе, Толстой вовремя спохватился (хотя всегда был с запасцем), но Достоевский, вот диво! Он как будто лишь обогатился и, кажется, проживи еще 100 лет, все полнее и глубже были бы его романы, он не старел! (Розанов тоже богател от писания.)