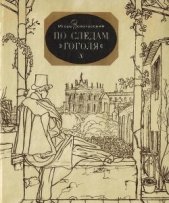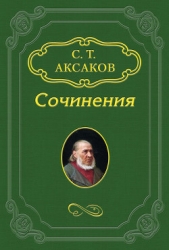Воспоминания современников о Н. В. Гоголе

Воспоминания современников о Н. В. Гоголе читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как-то случилось, что в течение двух или трех недель ни разу не привелось нам с Пановым видеться: ко мне он перестал заходить, я нигде его не встречал, спрашивал о нем у наших общих знакомых, но и от них о нем ни слуху ни духу — совсем запропастился. Наконец является ко мне, но такой странный и необычный, каким я его никогда не видывал, умиленный и просветленный, будто какая благодать снизошла на него с неба; я спрашиваю его: «Что с тобой? куда ты девался?» — «Все это время, — отвечал он, — был я занят великим делом, таким, что ты и представить себе не можешь; продолжаю его и теперь». И говорит он это так сдержанно, таинственно, чуть не шепотом, чтобы кто не похитил у него сокровище, которое переполняет его душу светлою радостью. Будучи погружен в свои римские интересы, я подумал, что где-нибудь в развалинах откопан новый Лаокоон или новый Аполлон Бельведерский, и что теперь пришел Панов сообщить мне об этой великой радости. «Нет, совсем не то, — отвечал он, — дело это наше родное, русское. Гоголь написал великое произведение, лучше всех Лаокоонов и Аполлонов; называется оно „Мертвые души“, а я его теперь переписываю набело». Тут в первый раз услышал я загадочное название книги, которая стала потом драгоценным достоянием нашей литературы, и сначала вообразил себе, что это какой-нибудь фантастический роман или повесть вроде «Вия»; но Панов разуверил меня, однако не мог ничего сообщить мне о содержании нового произведения, потому что Гоголь желал сохранять это дело в тайне…
Ф. В. ЧИЖОВ [12]
<ВСТРЕЧИ С ГОГОЛЕМ>
Я познакомился с Гоголем тогда, как он был сделан адъюнкт-профессором в С.-Петербургском университете, где я тоже был адъюнкт-профессором. Гоголь сошелся с нами хорошо, как с новыми товарищами; но мы встретили его холодно. Не знаю, как кто, но я только по одному: я смотрел на науку чересчур лирически, видел в ней высокое, чуть-чуть не священное дело, и потому от человека, бравшегося быть преподавателем, требовал полного и безусловного посвящения себя ей. Сам я занимался сильно, но избрал для преподавания искусство, мастерство (начертательную геометрию), не смея взяться за науку высшего анализа, которую мне тогда предлагали. К тому же Гоголь тогда, как писатель-художник, едва показался; мы, большинство, толпа, не обращали еще дельного внимания на его «Вечера на хуторе»; наконец и самое вступление его в университет путем окольным отдаляло нас от него, как от человека. По всему этому сношения с ним у меня были весьма форменные, и то весьма редкие.
Расставшись с Гоголем в университете, мы встретились с ним в Риме в 1843 году и прожили здесь целую зиму в одном доме, на Via Felice, № 126. Во втором этаже жил покойный Языков, в третьем Гоголь, в четвертом я. Видались мы едва ли не ежедневно. С Языковым мы жили совершенно по-братски, как говорится душа в душу, и остались истинными братьями до последней минуты его; с Гоголем никак не сходились. Почему? я себе определить не мог. Я его глубоко уважал, и как художника, и как человека. Перед приездом в Рим я много говорил об нем с Жуковским и от него первого получил «Мертвые души». Вечера наши в Риме сначала проводили в довольно натянутых разговорах. Не помню, как-то мы заговорили о <А. Н.> M<уравье>ве, написавшем «Путешествие к святым местам» и проч. Гоголь отзывался об нем резко, не признавал в нем решительно никаких достоинств и находил в нем отсутствие языка. С большею частью этого я внутренне соглашался, но странно резкий тон заставил меня с ним спорить. Оставшись потом наедине с Языковым, я начал говорить, что нельзя не отдать справедливости Муравьеву за то, что он познакомил наш читающий люд со многим в нашем богослужении и вообще в нашей церкви. Языков отвечал:
— Муравьева терпеть не мог Пушкин. Ну, а чего не любил Пушкин, то у Гоголя делается уже заповедною и едва только не ненавистью.
Несмотря, однако ж, на наши довольно сухие столкновения, Гоголь очень часто показывал ко мне много расположения. Тут, по какому-то непонятному для самого меня внутреннему упрямству, я, в свою очередь, отталкивал Гоголя. Все это, разумеется, было в мелочах. Например, бывало, он чуть не насильно тащит меня к С<мирнов>ой; но я не иду и не познакомился с нею (о чем теперь искренно сожалею) именно потому, что ему хотелось меня познакомить. Таким образом, мы с ним не сходились. Это, пожалуй, могло случиться очень просто: Гоголь мог не полюбить меня, да и все тут. Так нет же: едва, бывало, мы разъедемся, не пройдет и двух недель, как Гоголь пишет ко мне и довольно настойчиво просит съехаться, чтоб потолковать со мной о многом… Сходились мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже очень больного, — Гоголь, Иванов и я. Наши вечера были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из нас троих — чаще всего Иванов — приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатино, и мы начинали вечер каштанами, с прихлебками вина… В обществе, которое он <Гоголь> кроме нашего, посещал изредка, он был молчалив до последней степени. Не знаю, впрочем, каков он был у А. О. Смирновой, которую он очень любил и о которой говаривал всегда с своим гоголевским восхищением: «Я вам советую пойти к ней: она очень милая женщина». С художниками он совершенно разошелся. Все они припоминали, как Гоголь бывал в их обществе, как смешил их анекдотами, но теперь он ни с кем не видался. Впрочем, он очень любил Ф. И. И<орда>на и часто на наших сходках сожалел, что его не было с нами. А надобно заметить, что Иордан очень умный человек, много испытавший и отличающийся большою наблюдательностью и еще большею оригинальностью в выражениях. Однажды я тащил его почти насильно к Языкову.
— Нет, душа моя, — говорил мне Иордан, — не пойду, там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы всё народ бедный, день-деньской трудимся, работаем, — давать нам не из чего. Нам хорошо бы так вечерок провести, чтоб дать и взять, а он все только брать хочет.
Я был очень занят в Риме и смотрел на вечернюю беседу, как на истинный отдых. Поэтому у меня почти ничего не осталось в памяти от наших разговоров. Помню я только два случая, показавшие мне прием художественных работ Гоголя и понятие его о работе художника. Однажды, перед самым его отъездом из Рима, я собирался ехать в Альбано. Он мне сказал:
— Сделайте одолжение, поищите там моей записной книжки, вроде истасканного простого альбома; только я просил бы вас не читать.
Я отвечал:
— Однако ж, чтоб увериться, что точно эта ваша книжка, я должен буду взглянуть в нее. Ведь вы сказали, что сверху на переплете нет на ней надписи.
— Пожалуй, посмотрите. В ней нет секретов; только мне не хотелось бы, чтоб кто-нибудь читал. Там у меня записано все, что я подмечал где-нибудь в обществе.
В другой раз, когда мы заговорили о писателях, он сказал:
— Человек пишущий так же не должен оставлять пера, как живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет непременно каждый день. Надобно, чтоб рука приучилась совершенно повиноваться мысли.
В Риме он, как и все мы, вел жизнь совершенно студентскую: жил без слуги, только обедал всегда вместе с Языковым, а мы все в трактире. Мы с Ивановым всегда неразлучно ходили обедать в тот трактир, куда прежде ходил часто и Гоголь, именно, как мы говорили, к Фалькону (al Falcone). Там его любили, и лакей (cameriere) нам рассказывал, как часто signor Niccolo надувал их. В великий пост до Ave Maria, то есть до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот, когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: «Нельзя отпереть». Но Гоголь не слушается и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он там уже остается и обедает…