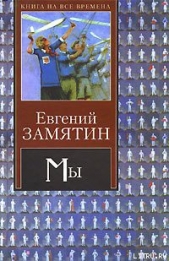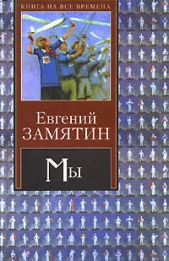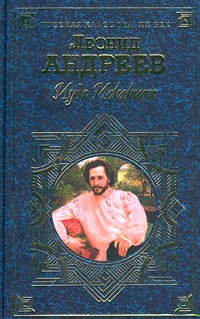Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.

Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв. читать книгу онлайн
В книге речь идет об особом месте так называемого малого жанра (очерк, рассказ, повесть) в конце XIX - XX вв. В этой связи рассматриваются как произведения Л.Толстого и Чехова, во многом определившие направление и открытия литературы нового века ("Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Скучная история", "Ариадна"), так и творчества И.Бунина, Л.Андреева и М.Горького, их связи и переклички с представителями новых литературных течений (символисты, акмеисты), их полемика и противостояние.
Во втором разделе говорится о поэзии, о таких поэтах как Ф.Тютчев, который, можно сказать, заново был открыт на грани веков и очень многое предвосхитил в поэзии XX века, а также - Бунина, в стихах которого удивительным образом сочетались традиции и новаторство. Одно из первых мест, если не первое, и по праву, принадлежало в русском зарубежье Г.Иванову, поэту на редкость глубокому и оригинальному, далеко еще не прочитанному. Вполне определенно можно сказать сегодня и о том, что никто лучше А.Твардовского не написал об Отечественной войне, о ее фронтовых и тыловых буднях, о ее неисчислимых и невосполнимых потерях, утратах и трагедиях ("Василий Теркин", "Дoм у дороги").
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вскоре мы все, то есть князь, Иван Иваныч и я, в один прекрасный день расстались, и расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки (…) И остался Иван Иваныч в своем мрачном коридоре… и разъехались мы с князем в совершенно разные стороны…» И я «был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся… они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет некий день, когда буду я тщетно взывать… к ним:
– Милый князь, милый Иван Иваныч, где-то гниют ваши кости? И где наши глупые надежды и радости, наша далекая московская весна?» (5, 88).
Итак, время неумолимо двигалось и уходило. И пусть это только образное выражение — «тысяча лет», но оно, как нельзя лучше подчеркивает временную дистанцию и помогает объяснить, почему почти все подверглось кардинальному переосмыслению.
Да, время и память сделали свое дело, и коснулось это, как мы видим, не только ценностей, которым поклонялись современники, но и всего того, что входило и составляло человеческий и общественный обиход того времени, неповторимую ткань и атмосферу жизни тех лет. Все это передвинулось теперь в плоскость вневременных категорий, в том смысле, что все эти вещи и люди, и, конечно, князь и Иван Иваныч превратились отныне в своеобразных пассажиров одного корабля, который следовал к совершенно определенной гавани. И они же, жившие в известный срок на земле, получили роль уникальных свидетелей, видевших одно и то же небо и солнце, одних и тех же людей, дышавших воздухом своей эпохи.
«Родное, дорогое нам, ценное настоящее, — писал Н. Бердяев, – должно было бы быть вечным, для него не должно было бы наступать то будущее, которое делало его прошлым. Будущее и делает настоящее прошлым, в этом смертоносная связь прошлого и будущего…
В чем… печаль времени? В невозможности пережить полноту и радость настоящего как достижения вечности, в невозможности в этом моменте настоящего… освободиться… от печали о прошлом и от страха будущего» [140].
Итак, в центре внимания писателя полное трагического смысла для человека движение времени, неумолимое и неотвратимое, в связи с чем, записывал он в дневнике, «не оставляет тайная боль неуклонной потери» приходящих и тут же навсегда исчезающих дней. «И идут дни и ночи, и эта боль» (Б, 9, 364). Эта боль была связана с тем, что человек давно догадался, что мир создан в вечности, а он, человек, во времени и потому — к вечности не имеет никакого отношения, никак в неё, что называется, не вписывается. Отсюда – запредельное, поистине космическое одиночество, сиротство человека и непрестанные его поиски ответа на вопрос: что надо ценить и чему служить в этом мире, где всё проходит и исчезает в бесконечности. Очевидно, что высшие ценности это то, что не проходит.
Заслуживает внимания признание, которое Бунин делает в ответ на замечание собеседника: «Как странно, что, путешествуя, вы выбирали всё места дикие, окраины мира». — «Да, вот дикие! Заметь, что меня влекли все некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать!» [141].
Действительно, почему он так пристально всматривается в какое-нибудь древнее турецкое или арабское кладбище, в котором давно смешались кости с мусором тысячелетних останков? Пытаясь «распутать» это, Бунин писал: «Тот, кто умер за две, три тысячи лет до нас, и подобия не имеет того, кто умер и погребен полвека тому назад… Две, три тысячи лет — это уже простор, освобождение от времени, от земного тления, печальное и высокое сознание тщеты всяких слав и величий. Все мои самые заветные странствия — там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей» (Б, 9, 365)…
Иными словами, дело не только и не столько в том, что кладбище — это то место, куда в будущем, сколь отдаленным оно ни было, судьба приведет каждого живущего на земле, и на могильном камне его, кто бы он ни был, вполне уместна будет надпись, которая однажды была уже сделана в глубокой древности: «Я не был, был, никогда не буду». Мы видим, что эти кладбища в странах древнейших цивилизаций позволяют если не понять, то почувствовать вот этот «простор», который дает «освобождение от времени, от земного тления». Именно с этим связан никогда не преходящий интерес человека заглянуть за грань временного, не раствориться и не исчезнуть в нем и каким-то, не иначе, чудесным образом оставить след свой «зарубку».
Одну из своих миниатюр Бунин посвящает исследованию подобных «зарубок» на память («Надписи», 1924). Издавна человек оставляет их повсюду, им нет числа: «они то пошлы, то изумительны по силе, глубине, поэзии». Тут главное в том, рассуждает герой-рассказчик, что человек во все времена ощущал настоятельную необходимость «хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти… Тут вечная, неустанная наша борьба с “рекой забвения”. И что же, разве эта борьба ничего не дает?.. Нет, тысячу раз нет! Ибо ведь в противном случае все пошло бы к черту — все искусства, вся поэзия, все летописи человечества. Зачем бы все это существовало, если бы мы не жили ими, то есть, говоря иначе, не продолжали бы, не поддерживали жизнь всего того, что называется прошлым, бывшим? А оно существует! У людей три тысячи лет навёрстываются слезы на глаза, когда они читают про слезы Андромахи, провожающей с ребенком на руках Гектора» (Б, 5, 175-176).
Итак, давным-давно бывшее продолжает жить и волновать сегодня. Но что именно и чем особенно дорожит писатель? Что же все-таки не подвержено тлению? «Что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад»? Бунин убежден: то, что сердце человеческое и в те легендарные дни «так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило в жизнь. Всё пройдет — не пройдет только эта вера!» (Б, 5,144).
«Всё пройдет»… Но ведь остается опыт прошлого, опыт, призванный и наставлять человека и хотя бы отчасти и утешать его. Но этот опыт не утешает, напротив, он снова и снова учит, что абсолютно всё подвержено разрушению и забвению: и прекрасные дворцы, и грандиозные империи, и богатство, и всесветная слава. Но есть что-то в человеке, что понуждает его не мириться с фактами самыми очевидными, и он продолжает, без всякой надежды на успех, искать ответ – что же все-таки остается и если только эта «вера в жизнь», то что вмещает слово сие?
Из рассказа «Темир-Аксак-Хан» (1921) мы узнаем о Хане, славнее которого не было во вселенной: весь подлунный мир трепетал перед ним, и прекраснейшие в мире женщины и девушки готовы были умереть за счастье быть рабой его. «Но перед кончиною сидел Темир-Аксак-Хан в пыли на камнях базара и целовал лохмотья проходил калек и нищих, говоря им:
— Выньте мою душу, калеки и нищие, ибо нет в ней больше даже желания желать!
И, когда Господь сжалился наконец над ним и освободил его от суетной славы земной и суетных земных утех, скоро распались все царства его, в запустение пришли города и дворцы, и прах песков размел их развалины под вечно синим… небом и вечно пылающим солнцем… Темир-Аксак-Хан? Где дни и дела твои? Где битвы и победы? Где те, юные, нежные, ревнивые, что любили тебя?» (Б, 5,35)
Как видим, тщеславию и богатству, всей житейской сует способно противостоять только то, что поистине нетленно и бессмертно — «синее небо» и «вечно пылающее солнце». И еще: «дикий шиповник», который «пророс сквозь останки лазурных фаянсов… гробницы, чтобы с каждой новой весной, снова и снова томились на нем, разрывались от мучительно-сладостных песен, от тоски несказанного счастья сердца соловьев» (Б, 5, 36).
В таком понимании опыта прошлого несомненны и масштабность мышления и бескорыстие, и духовность. Человек с подобным душевным настроем способен приобщиться к такому пониманию истинных ценностей, в котором тон будет задавать мудрость: и то, что достоинства и недостатки всех вещей относительны, и то, что любить в себе нужно не себя, а, по выражению философов, дух беспредельный. Иными словами, как писал Толстой, «чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы цель её выходила за пределы этого мира, за пределы постижимого умом человеческим» (Т, 54, 112).