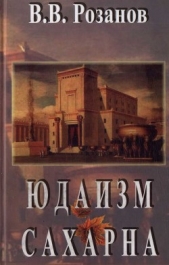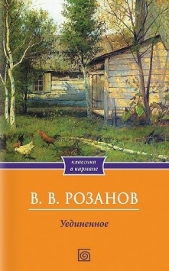Розанов

Розанов читать книгу онлайн
Книга А. Н. Николюкина — известного исследователя жизни и творчества замечательного русского писателя и философа Василия Васильевича Розанова — основана на документальных и архивных материалах и впервые целостно представляет историю становления Розанова как художника и мыслителя.
В ней дана литературная характеристика всех значительных произведений писателя, отличавшегося нетрадиционным образом мышления. Перед читателем предстает вся панорама его творческого наследия. Многие важнейшие книги Розанова, созданные в 1913–1918 годах, впервые исследуются по рукописям и публикациям в 12-томном собрании сочинений В. Розанова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще определеннее «нелюбовь» к Соловьеву раскрывается в другой записи «Опавших листьев»: «Вл. Соловьев написал „Смысл любви“, но ведь „смысл любви“ — это естественная философская тема: но и он ни одной строчки в десяти томах „Сочинений“ не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене, и вообще терниям и муке семьи. Ни одной строчкой ей не помог» (328). Для автора «Семейного вопроса» — книги Розанова, на которую совершенно не обратили внимания современники, — эта черта жизни и сочинений Соловьева была совершенно неприемлема.
Соловьев был мастером «мгновенных слов» — записочек, шуток, каламбуров и изречений, какие он в течение всей жизни бросал не в корзину, а в карманы друзей своих, просто знакомых и даже едва знакомых, как вспоминает Розанов. Главной особенностью, которой Соловьев привлекал к себе любопытных, была затаенная мысль о «душе мира» — любимое понятие писателя.
Другое почти что крылатое выражение Соловьева Розанов припомнил в связи с полемикой в «Русской мысли» по национальному вопросу: «Влад. Соловьев был больше мастером философских софизмов и софистических словечек, нежели мастером философских понятий. В грубой полемике своей против Н. Я. Данилевского и его книги „Россия и Европа“ и против Н. Н. Страхова и его сочинений — „Борьба с Западом в нашей литературе“ он употребил термин „зоологический национализм“: и хотя это было в 1893–1894 годах минувшего века, его вот и до сих пор словечко не только не умерло, но перебегает поджигательным огоньком в журнальных и газетных полемиках» [263] .
Розанов справедливо подметил, что если, беря в руки какое-нибудь сочинение Белинского или Чернышевского, берешь вместе с тем и всю его «душу», то единичное сочинение Соловьева — всегда обращение к публике по данному вопросу, за которым какова вообще его душа — неизвестно. «Душа» же его если и выразилась, то лишь во всей массе его сочинений, да и то не вполне, не окончательно.
Он не был, как отмечает А. Ф. Лосев, ни славянофилом, ни западником. «Соединить, слить, связать Notre Dame de Paris с Кремлем» — вот идея Соловьева. Слить величайшую поэзию, величайший пафос, самую «душу» Запада и его католичества с самою «душою» Востока, с «святою православною душою», в ее лирике, в ее экстазе, как она выразилась в одном слове в четыре буквы: «Царь» [264] . Так писал о нем Розанов и в таком смысле он был одновременно и западником, и славянофилом, любил и ненавидел «тем холодным презрением и тою холодною любовью, которая неотделима при уверенности: „все это пройдет и всего этого не нужно“».
Споривший со славянофилом Хомяковым Соловьев в чем-то весьма существенном и продолжал его. Острый, волнующийся, вечно досадующий ум Соловьева «прошелся „ледоколом“ по нашему религиозному формализму» [265] , говорил Розанов. В этом историческое значение и сила его.
В воспоминаниях о Соловьеве Розанов рассказывает историю, проливающую свет на его философский метод и дающую живое представление об этом человеке. Еще в некрологе Соловьеву, написанном Розановым для «Мира искусства», появилось определение его мировоззрения как эклектического. По этому поводу Розанов тогда же отметил в сноске, что в оставшейся ненапечатанной статье своей «Схема развития славянофильства» он, по просьбе Соловьева, заменил в характеристике общего склада его ума слово «эклектизм» на слово «синкретизм».
Позднее Розанов рассказал этот достопамятный эпизод подробнее, «в лицах»: «В пору участия в „Мире искусства“ я написал маленькую статью „Классификация славянофильских течений“. Заглавие было другое, но тема — эта. В конце ее было указано и „место Влад. Соловьева“, так как уже постоянным интересом к церковному вопросу он, несомненно, принадлежал к славянофильскому крылу русской литературы, чуждой церковного интереса во всяческих своих „крыльях“ и всем вообще „оперении“ и в целом теле. Рукопись (затерявшуюся потом у Д. В. Философова, соредактора „Мира искусства“) я показал Влад. Соловьеву, только что тогда со мною познакомившемуся. Он ее принес мне через неделю с одобрением и с просьбой изменить только одно слово.
— Какое?
— Вы даете мне историческое положение эклектизма…
— Ну, да! У вас есть много славянофильского, и в то же время вы — пылкий западник. Вы православный и в то время защищаете католичество. Когда вы полемизируете с позитивистами, — вы выступаете как христианский философ или, по крайней мере, как представитель немецкого философского идеализма, а когда вам надо поразить профессоров духовной академии или Грингмута и „Московские ведомости“, или Достоевского и Страхова, — вы говорите жестким языком позитивистов и естественников, их тезисами, их аргументами, их смехом. Вы ни в одном лагере, и в то же время принадлежите ко всем, смотря по моменту борьбы и позиции воина. Я не осуждаю этого и вообще не вмешиваюсь в это, а только определяю это как эклектизм.
— Против определения я не спорю, а только хотел бы, чтобы вы употребили другое слово — синкретизм.
— Это еще что за зверь?
— Почти то же, что „эклектизм“, но другого оттенка. Эклектизм есть внешнее приспособление вещей друг к другу, понятий друг к другу, философских систем друг к другу. „Эклектик“ обычно не имеет никакой своей идеи… Синкретизм же совсем другое. В философии Кузен был эклектик; но если вы будете читать историю греческой философии, то вы найдете там целые эпохи синкретизма, когда дотоле раздельно и противоположносуществовавшие философские течения неудержимо сливались в одно русло, в один поток, преобразовывались в одно более сложное и величественное учение» [266] .
Называя себя синкретистом, а не эклектиком, Соловьев «конфузился при этом, беря себе выше ранг», в отличие от нынешних наших идеологов, выдающих свою эклектику за стройную теорию. Что касается Розанова, то он согласился с Соловьевым и немедленно поправил одно слово. Видимость согласия между столь несхожими писателями и людьми была как бы установлена.
Итоговую характеристику Соловьева и своего отношения к нему Розанов высказал в «Мимолетном»: «Многообразный, даровитый, нельзя отрицать — даже гениальный Влад. Соловьев едва ли может войти в философию по обилию в нем вертящегося начала: тогда как философия — прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов. Соловьев же весь был шум и нельзя отрицать — даже суета. Самолюбие его было всепоглощающее: какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ — с огромным вливом литературных волнений своих, литературного темперамента — в философию. Он „вливался“ в философию, как воды океана вливаются в материк заливами, губами и всяческими изгибами: и пенился, и плескался, и обмывал „философские темы“ литературным языком и литературною душою» [267] .
Особенно удивляли Розанова горячность и неуемность Соловьева, «верный ветер», пронизывавший его жизнь. Его сочинения он сравнивал с «падучими звездочками» в вечном философском небе — и каждая из них переставала гореть раньше, чем успеешь сказать «желание». Что-то мелькающее, что-то преходящее. И при этом его «желание вечно оскорблять». «Какой же это философ! — восклицает Розанов, — который скорее ищет быть оскорбленным или равнодушен к оскорблению и уж никогда решительно не обидит другого. Его полемика с Данилевским, со Страховым, с (пусть нелепыми) „российскими радикал-реалистами“, с русскими богословами, с „памятью Аксакова, Каткова и Хомякова“ до того чудовищна по низкому, неблагородному, самонадеянно-высокомерному тону, по отвратительно газетному языку, что вызывает одно впечатление: „фуй! фуй! фуй!“» [268] .