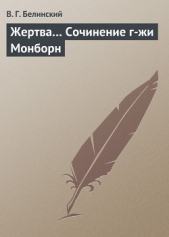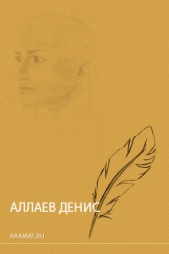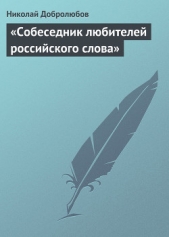Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы
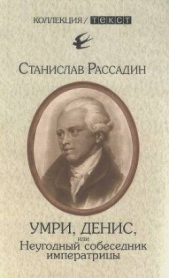
Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Словом сказать, господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. Спору нет, что много в ней доброго; но, не знаю, не больше ли худого».
«Словом сказать» — это венец, конец, усталый итог, и трудно поверить, что автор всего несколько дней во Франции и до Парижа ему ехать и ехать. Да его это и не смущает, он знает все наперед:
«Мы не видали Парижа, это правда; посмотрим и его; но ежели и в нем так же ошибемся, как в провинциях французских, то в другой раз во Францию не поеду. Коли что здесь прекрасно, то разве климат…» (Немного же.)
Не сдержал зарока, поехал и в другой раз — не во Францию, так в Италию, — но велика первоначальная настороженность, и в том же самом письме он не страшится однообразного повтора:
«Остается нам видеть Париж, и если мы и в нем так же ошибемся, как во мнении о Франции, то, повторяю тебе, что из России в другой раз за семь верст киселя есть не поеду».
Это первое письмо из Франции; в третьем с назойливостью повторится то же самое:
«Остается нам видеть Париж, чтоб формировать совершенное заключение наше о Франции; но кажется, что найдем то же…»
Одним словом.
«Славны бубны за горами…»
Ясное дело, если настроиться так с первого разу, то найдешь то, что ищешь. Ищущий — обрящет.
Через двадцать с небольшим лет в своих «Письмах русского путешественника» Карамзин расскажет такую историю. Возле курляндской корчмы он записывает свои дорожные впечатления и слышит, как два путешествующих немца бранят от скуки русский народ. «Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги?
— Нет, — отвечали они.
— А когда так, государи мои, — сказал я, — то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе.
Они не рассудили за благо спорить…»
Этого простого резона Фонвизин признавать не хочет, суждения его скороспелы и окончательны, и прав, увы, Вяземский, заметивший, что «анекдот путешественника, который, проезжая через один немецкий город, нашел в гостинице рыжую женщину, бившую мальчика, и записал в своих путевых записках: здесь все женщины рыжи и сердиты, — может совершенно быть применен к большей части наблюдений Фон-Визина». Да и кто не отмечал, по-разному ее объясняя или оправдывая, редкостную предвзятость путешествующего Дениса Ивановича…
Категоричность вояжера-неофита не поубавилась с накоплением запаса наблюдений; опыт, пожалуй, даже прибавил уверенности, и характер целой нации предстал перед любопытствующим корреспондентом Фонвизина Петром Паниным в таком виде:
«Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний. А как на забавы потребны деньги, то для приобретения их употребляет всю остроту, которою его природа одарила… Обман почитается у них правом разума. По всеобщему их образу мыслей (заметим, по всеобщему, — Ст. Р.),обмануть не стыдно; но не обмануть — глупо. Смело скажу, что француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице. Божество его — деньги».
И много позже, когда Денис Иванович поедет в Италию и Германию, все то же самое генеральное неприятие не только французского, вообще чужого не оставит его, человека умного, доброго и проницательного (тем все это и удивительнее):
«Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах — словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы».
Вообще, Фонвизин недалеко ушагал от своего кучера, который считал немцев не людьми, а «наравне с гадиною» и бранил их нещадно, что заставляло его хозяина покатываться со смеху, — хотя что ж смешного в национальной кичливости, оборачивающейся шовинистической ненавистью?
Так трактована Германия. Так позже будет отщелкана Италия:
«Образ жизни итальянский, то есть весьма много свинства».
«И комары итальянские похожи на самих итальянцев: так же вероломны и так же изменнически кусают».
«Итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие…»
«Я до Италии не мог себе вообразить, чтоб можно было в такой несносной скуке проводить свое время, как живут итальянцы»; заметим, что по-итальянски Денис Иванович не выучился, итальянцы, по его же признанию, плохо знают французский, — откуда ж такая уверенность?
И даже:
«Вообще сказать можно, что скучнее Италии нет земли на свете: никакого общества и скупость прескаредная».
Я сознаю, какое испытание в глазах читателя проходит сейчас облик Фонвизина и как звучит вся эта хула для человека современного, на плечах которого горестнейшие опыты национальной разобщенности и ненависти; но призовем на помощь свою способность воспринимать явления прошлого исторически. А репутация самого Фонвизина, слава Богу, и не такое выдержит; так что не будем стесняться правды.
Вот черта, в любом случае и при любых объяснениях несимпатичная: потешаться над тем, что не похоже на свое, привычное, коренное. Допустим, обоснованно предпочтение, отданное петербургской полиции, которая не дозволила бы палить свинью посреди Миллионной или Галерной, — но знаменитый итальянский карнавал, тысячекратно описанный и воспетый, он-то неужто тоже способен не угодить?
Способен, оказывается:
«Карнавал мы застали и четыре дня были свидетелями всех народных дурачеств, а особливо последний день, то есть погребение масленицы. Весь народ ее со свечами хоронил. Такой глупости и вообразить себе нельзя».
То же — в Страсбурге, где непривычною показалась панихида: «…я с женою от смеха насилу удержался». Французская музыка тоже нехороша: «Этаких козлов я и не слыхивал… Жена всегда носит с собою хлопчатую бумагу: как скоро заблеют хором, то уши и затыкает». Кукольный театр, кочующий по улицам (чего лучше, кажется?), и тот не угодил: «Часто найдешь на площадях людей около бабы или мужика, которые, поставя на землю род шкапа с растворенными дверцами, кажут в шкапу куколок. Баба во все горло поет духовные стихи, а мужчина играет на скрипке…» — пока все описано хоть и без восторга, с тем чужедальним остранением, с каким Наташа Ростова смотрела оперу, раздражавшую великого автора, и все же достаточно спокойно… ан нет! Тут же следует непременный вывод: «…словом, народ праздный и зазевывается охотно, а притом и весьма грубый». И еще решительнее: «Правду сказать, народ здешний с природы весьма скотиноват. Я думаю, что таких ротозей мало водится».
Многому неприязненно дивится наш путешественник: то тому, что некая маркиза, ежели нету у нее гостей, не смущается спуститься для обеда на собственную поварню (припомним заодно, как фраппировала Фонвизина простота нравов, когда солдат, выставленный у губернаторской ложи, не побоялся войти в нее и спокойно смотреть спектакль рядом со своим командиром); то начнет хохотать уже не над чужой панихидою, но над чужим языком, между прочим красивейшим, однако чужим:
«A propos надобно сказать тебе нечто и о польских спектаклях. Комедий видели мы с десяток, переводных и оригинальных. Играют изрядно; но польский язык в наших ушах кажется так смешон и подл, что мы помираем со смеху во всю пиесу…»
Если все же позволить себе исторически забыться и довериться лишь современному восприятию, то это — вульгарно, пошло, даже ничтожно. Да и почему современному? Скажем, для Чехова подобное давно уже именно ничтожно, пошло, вульгарно; оно — достояние шаржа, а не анализа:
«Согласен, французы все ученые, манерные, это верно… Француз никогда не позволит себе невежества…»
Положим, Денис Иванович счел бы, что чеховский помещик Камышев излишне либерален:
«Дворянство французское по большей части в крайней бедности, и невежество его ни с чем не сравненно».
«…Вовремя даме стул подаст, — продолжает Камышев великодушно признавать достоинства ненавистного француза, — раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол…»
Пожалуй, Фонвизин и тут бы воспротивился. Его самого манеры и обеденный обычай французов раздражали: