Невидимый град
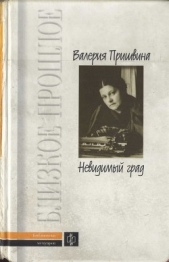
Невидимый град читать книгу онлайн
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Что же, однако, волнует меня и страшит?» — думала я, вслушиваясь в поучения нашего профессора. Ведь я легко могла бы в развернутом мне учении о вселенной найти место и моей бедной исторической Церкви, в которой я выросла и жила до сих пор. Но именно эта Церковь учит нас: все, что в ее границах, необходимо и достаточно, границы ее «безграничны» для всякого святого творчества человека, и потому она есть полнота и вместилище всего до конца земной истории. Таков опыт святых. Постепенно я понимаю: богатства гностического познания уничтожают необходимость труда и любви на узком пути спасения — пути святости. Гностики хотят достигнуть цели без подвига нравственного очищения, они довольствуются силой ума {101}.
Но раз средневековый орден оказался живущим в моем двадцатом веке, то почему же не быть реальной Церкви святых на моей земле и в моем времени?
В душе я уже решила выйти из ордена, вернее, окончательно решила в него не вступать. Но я не могла оставить Александра Васильевича, а увести его оказалось нелегко. Все люди, и посторонние, и друзья, стали замечать и удивляться, не понимая, что стало с Александром Васильевичем. Такой неловкий, такой серый, он стал утонченным, светящимся, даже по-своему красивым. И только я одна знала источник этой «красоты». Александр Васильевич был увлечен орденом и светился его «светом». Мне оставалось терпеть до последнего, выжидая какого-то благоприятного события. Это «последнее» уже над нами нависало. Однажды руководитель объявил нам, что первый круг нами пройден, и мы переходим на следующий. Теперь мы должны были избрать себе имена с одной и той же заглавной буквы по греческому алфавиту. Нашей буквой, сказали нам, будет альфа. Сейчас я думаю, что, вероятно, так производился учет членов ордена, но я об этом тогда не догадывалась. Над нами был совершен ритуальный обряд, слов которого я не помню, но помню хорошо старинный меч в руках профессора, которым он ударял каждого из нас, называя наше новое имя. Это вызывало чувство неловкости и за себя, и за седого, серьезного профессора. Мое имя было Антос, по-гречески цветок… Все это теперь я терпела из-за Александра Васильевича, терпела и чего-то ждала…
К этому времени со мною стало твориться нечто непонятное: я начала на наших собраниях впадать в сон, похожий на гипнотический. При этом сон был неполный, только приглушалось активное сознание. Я сидела с открытыми глазами и даже отвечала на вопросы, но не запоминала ничего. Никто не замечал моего состояния, вероятно, и сам профессор.
Наконец нам было объявлено, что мы находимся у последних дверей, и от нас требуется решительный обет полного и пожизненного послушания ордену. После этого возврата быть уже не может. Что же угрожало нам в противном случае? — спрашиваю я себя теперь. Не знаю, и никто не задавал себе этого вопроса тогда. До сих пор меня удивляет, с какой легкостью все согласились приступить к последним обетам. Так пришел момент, когда мне необходимо стало объявить о своем несогласии и уйти.
Однажды, почти накануне дня, когда мы должны были произнести свои роковые обеты, нам было сказано собраться в новом месте у профессора математики, «рыцаря» такого же высокого ранга, что и у нашего руководителя. Как понимаю сейчас, это было нечто вроде предварительного смотра перед посвящением. Двери маленького особняка в районе Пречистенки на наш условный стук открыл сам хозяин. Так же, как и в первый раз, никого не было дома. Такая же в нем была тишина. Мы пришли первыми, и молчаливый хозяин, оглядев, оставил нас одних в подготовленной для занятий комнате.
— Вы решились? — спросила я у Александра Васильевича.
— Решился, — ответил он мне коротко. — А вы все колеблетесь?
Споры шли у нас уже давно.
— Я не могу доказать своей правоты, но я не останусь с ними. Я не знаю только, как уйти, чтоб не обидеть, не обмануть их доверия.
Мы сидели в пустой комнате: круглый стол посредине да несколько стульев. Тяжелые занавеси на окнах. Полумрак. Проходит сколько-то времени в молчании. Я различаю в углу какой-то предмет, завешанный черным. Я встаю и, почему-то крадучись, подхожу к нему. Дотрагиваюсь: черный бархат. Хочу приподнять.
— Не трогайте! — шепчет мне сзади Александр Васильевич, как новый образумленный Адам, останавливающий Еву перед запретным.
— Нет, я должна посмотреть, что там!
Я решительно поднимаю черный бархат: там большая мраморная скульптура Мефистофеля, погруженного в думу, всем известного Мефистофеля работы Антокольского. Я опускаю бархат и смотрю на Александра Васильевича: он бледен, как бумага. Произведения искусства не завешивают черным бархатом, не ставят в угол, как икону… Мы беремся молча за руки и, уж не помню под каким предлогом, уходим из дома и от этих людей навсегда.
Всю ночь я писала письмо нашему профессору, пытаясь объяснить причину ухода {102}.
Порвать с орденом было нелегко, но еще трудней оказалось порвать сети, которыми искусно, пользуясь моей полной неопытностью, да и по собственному легкомыслию, окружал меня третий приятель по Институту. Выбиваться мне было трудно потому, что он сам попал в собственные сети, расставленные другому: начав не более как привычную игру, он полюбил. Он стал на моих глазах меняться. А я не любила его и не могла полюбить — ни одной минуты я в этом не сомневалась. Однако во мне боролись противоречивые силы, они-то и сковывали мою волю, притупляя здравый смысл. Это было и отталкивание, граничившее подчас с отвращением, и сочувствие, и жалость, и неумение с достоинством и решимостью произнести окончательное «нет»; NN был близким товарищем, почти другом, мы ежедневно встречались в Институте; каждый день я собиралась объясниться и не находила решимости и слов.
Впрочем, отбросим самооправдания: это продолжалось во мне то внутреннее падение, которое началось недавно и о котором я уже говорила. Моя «мягкость» (мать на своем языке называла это женственностью) при отсутствии любви, на каких-то строгих, точнейших весах была продолжением того падения. A NN, считая день моего молчания своим выигрышем, ничего не замечая или не желая замечать, мечтает о «литературном салоне» в обширной квартире своего отца: «Вы будете его музой, вы рождены для этого!» — говорит он мне с наивным тщеславием. Я слушаю его, и мне стыдно, так стыдно, что я никогда не смотрю теперь ему прямо в лицо. Разобраться в значении этого тяжелого стыда я не решаюсь. А он по-прежнему ничего не замечает.
— Вам не избавиться от меня, дорогая! — весело и уверенно говорит мне NN.
Он считает долгом своим рассказать мне, как они с приятелем, блестящим оратором и гордостью нашего Института, занимались в виде спорта «охотой» за моими институтскими подругами.
— В знак того, что это навсегда кончается, приношу к вашим ногам мой дон-жуанский список.
Он доволен собой — он поступил сейчас благородно. Он удивлен, что я ужасаюсь, я даже не верю ему.
— У вас устарелые предрассудки, — смеется он надо мной. — Эти девушки стали свободней и глубже понимать жизнь — и только. Это их приобретение.
— Просто так, безо всякой любви? — восклицаю я. Он не слышит моего «без любви». Он, все превращающий в шутку, говорит теперь серьезно:
— Я решительно другой, посмотрите на меня! Я знаю, мне не добиться от вас согласия, я пойду к вашей матушке, по доброму старому обычаю просить вашей руки.
«Не ходите!» — хочу я сказать, но меня сковывает стыд. Как мне объясниться с ним? Он все сведет снова к шутке. Мне остается только бежать. И как сказать «нет», когда он готов стать иным? И куда бежать, если тот, кого я жду, за мной не приходит? Самое страшное — я перестала его ожидать.
У меня были верные друзья: мама, Александр Васильевич, Николай Николаевич, каждый из них протянул бы мне руку и вывел. Но я скрываю от всех свой плен и пытаюсь вырваться собственными силами.


























