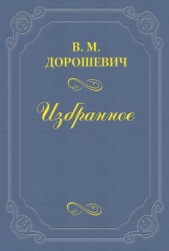Александр Иванов

Александр Иванов читать книгу онлайн
Книга писателя Л. М. Анисова о великом русском живописце Александре Иванове. Главный труд художника «Явление Мессии» — плод не только его личного религиозного чувства, но и результат глубоких размышлений над мировой и отечественной историей. Автору удалось найти и использовать многие ранее неизвестные биографические факты и архивные материалы о живописце.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
До двух часов ночи продолжалась заутреня.
Покинув церковь, распевая по сонным римским улицам русское «Христос воскресе из мертвых…», художники, минуя Форму Траяна и фонтан Треви, пришли на одну из русских квартир, где назначено было разговенье.
«Столы были накрыты и уставлены так, что и скатертей не видно, — отмечал М. П. Погодин. — Откуда ни взялись куличи, пасхи и печеные красные яйца. Подождали несколько времени Священника, чтоб он благословил, но его задержал кто-то, и мы перекрестясь приступили одни к столу. Нас было человек 30. Тридцать человек, живущих на счет правительства! Началось целование. Распорядитель, Л., попросил сесть за стол, — что же! Начался ужин, или лучше особенная заутренняя трапеза. Потянулись холодные, жаркие, пирожные, похлебки, полилось бургунское, португальское и, наконец, шампанское. Подумаешь, богачи задают пир, — и ни от чего нельзя было отказаться. Чего тут не было, а ни у кого за душой ни копейки. — Русский дух! Тосты, тосты! Раздались восклицания со всех сторон. Назначьте вы первый тост, закричал мне I., назначьте вы, закричали за ним все прочие. Я встал. „Здоровье нашего славного Царя, августейшего покровителя художеств, и да утвердится в нем более и более мысль, что искусство есть венец гражданского образования, лучшее украшение жизни, слава государства. Боже! Царя храни!“ но у всех певцов не достало уже памяти, и после первого куплета:
все стали поглядывать друг на друга, ожидая продолжения… но никто не подсказывал… оборонились ко мне; я помнил не больше, и все затянули опять диким голосом: „Боже, Царя храни“, обрадуясь, как будто вспомнили все, и подхватили опять, только гораздо громче. Потом выпили за Наследника, который во время пребывания своего в Риме, так одобрил всех наших художников, заказал им работы, и вообще оставил самое приятное воспоминание. Чье здоровье пили после, я ничего уже не помню, знаю только, что никто не был обижен, как никто не был обнесен чаркою. Какими громовыми рукоплесканиями покрылась Святая Русь? В честь искусству! искусству! Все пело, пило, кричало, шумело, словом — кто во что горазд, и бедные соседние итальянцы верно восклицали со старушками Гоголя: ну теперь гуляют парубки! „За мужичков“, закричал Пименов, который так счастливо начал предметы для ваяния из их жизни. „За русских мужичков“, закричало двадцать голосов! „А солдатики-то наши“, возразил кто-то. И за солдатиков!..За художников!..Шампанское не истощалось, Иордан смешил своими острыми шутками, другой странными телодвижениями, третий бурными восклицаниями!
Между тем рассветало, голоса начали стихать, свечи и глаза гаснуть. Все мы устали, утомились, — перецеловались, и разошлись слишком веселые, чтоб не сказать очень на веселе».
На другой день Погодины покинули Рим. Путь их далее лежал во Францию.
Н. В. Гоголь переделывал тогда повесть «Портрет». Переделывал под впечатлением увиденного в мастерских художников, в особенности, у Александра Иванова.
Увлеченный работой, он, кажется, высказывал многие его мысли и суждения.
В первой редакции повести, несмотря на запутанный и странный фантастический сюжет, прочитывалась все же тема пагубного влияния темной силы денег на художника.
Старый безбожник-ростовщик, сумев соблазнить художника деньгами, добился согласия написать свой портрет и мучил портретиста при жизни и даже после своей смерти. Таинственно переселившись в свое изображение на холсте, ростовщик сгубил также талант и другого художника, случайно, через много лет, оказавшегося обладателем портрета ростовщика.
Зло, запечатленное на холсте, разносится по миру, — вот мысль первой редакции повести.
И недаром во второй редакции художник, написавший портрет ростовщика, спасает душу свою, уйдя в монастырь.
Прежде Гоголя привлекал живописец бойкой кисти, — артист, любимец толпы и баловень судьбы, пишущий модные картинки и портреты, словом, щеголь кисти.
Есть такой герой и в новой редакции повести: Чартков, — модный живописец, ездящий на балы, сопровождающий дам в галереи и на гулянья.
Он резко высказывается о художниках и искусстве, утверждая, что прежним художникам чересчур много приписано достоинств, что все они, до Рафаэля, писали не фигуры, а селедки, да и сам Рафаэль писал не все хорошо, а Микеланджело хвастун, и что настоящего блеска, силы кисти нужно искать теперь, в нынешнем веке.
Именно Чартков подвергает критике художника иного рода, который подолгу копается над картиной.
— Нет, я не понимаю, — говорил Чартков, — напряжения других сидеть и корпеть за трудом; человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник; я не поверю, чтобы в нем был талант; гений творит смело, быстро. — Вот у меня… этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я… я не признаю, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой: это уж ремесло, а не художество.
Как тут не вспомнить слова, сказанные Карлом Брюлловым: «тот не художник, для кого исполнение составляет трудность» и «кропотность исполнения сообщает вялость даже самой мысли», а также не привести выписки из дневника Т. Г. Шевченко, сделанной 27 июля 1857 года: «Карл Павлович Брюллов никогда ни слова не говорил о картине Иванова, самого же Иванова в шутку называл немцем, то есть кропуном. А кропанье, по словам великого Брюллова, верный признак бездарности, с чем я не могу согласиться в отношении Иванова, глядя на его „Марию Магдалину“».
Но самое главное, заметил искусствовед М. В. Алпатов по поводу высказанных Чартковым слов, что это осуждение Н. В. Гоголь вкладывает в уста Чарткова в тот период его жизни, когда он сбился с пути, отказался от преданного служения искусству, стал относиться к нему, как к выгодному ремеслу. Не трудно догадаться, на чьей стороне были отныне симпатии самого Гоголя [50].
И не явно ли в отвергаемом Чартковым художнике проглядывает образ Иванова, с такою симпатией описанный Гоголем:
«Этот художник… от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенною душою труженика погрузился в него всей душой своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, — в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в неразвлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неуменьи обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, об унижении, которое он причинил званью художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердились ли или нет на него братья. Всем пренебрег он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданиях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учителя великого Рафаэля… И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной мысли… Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью, и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre, несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней степени высокого».