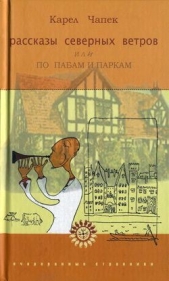Хорошо посидели!

Хорошо посидели! читать книгу онлайн
Даниил Аль — известный ученый и писатель. Его тюремные и лагерные воспоминания посвящены людям, которые оставались людьми в сталинских тюрьмах и лагерях. Там жили и умирали, страдали и надеялись, любили и ревновали, дружили и враждовали…
Поскольку юмор, возникающий в недрах жизненной драмы, только подчеркивает драматизм и даже трагизм происходящего, читатель найдет в книге много смешного и веселого.
Следует подчеркнуть важнейшее достоинство книги, написанной на столь острую тему: автор ничего не вымышляет и ничем не дополняет сохранившееся в его памяти.
Книга написана живым образным языком и вызовет интерес у широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Книг в пересылке не полагалось, так же как и постельного белья. Время поэтому тянулось здесь еще медленнее, чем в следственной тюрьме. Впрочем, если бы и была у меня в руках книга, читать бы я, скорее всего, все равно не смог. Помимо крика, хохота и злобной перебранки, не утихавших во всех концах камеры, происходило и еще нечто, уж совсем не совместимое с каким-либо чтением.
Дело в том, что одним из самых популярных занятий, которым блатные любят заполнять в тюрьме «свободное время», является обучение танцу. Точнее говоря — чечетке, в самом примитивном ее варианте. Каждый уважающий себя вор с тюремным стажем должен смолоду уметь «бацать». Настоящий вор ведь и начинает свой профессиональный путь обычно с юных лет.
В первое же утро нашего пребывания в камере вологодской пересыльной тюрьмы, сразу же после завтрака, начался «урок танцев». Сначала обучался один из наших сокамерников. Потом к нему присоединился низкорослый Мыша. А потом и еще один вор. «Урок» происходил под руководством «педагога», который, кстати сказать, вероятнее всего, «бацать» не умел. Впрочем, этого и не требовалось. «Педагог» сидел, свесив ноги с нар нижнего этажа. Танцоры стояли в узком проходе между нарами и стеной камеры. Урок проходил до ужаса однообразно. «Учитель» произносил первую строчку стиха:
Танцор должен был «сбацать», то есть отбарабанить ногами размер и ритм второй бессловесной строчки стиха:
Там-тара-бам-тара-бам-тара-бам.
Учитель возглашал третью строчку:
Там-тара-бам-тара-бам-тара-бам, —
гремело в ответ.
Никакие другие слова, никакие другие ритмы в данном «учебном процессе» не употреблялись. Пока учитель произносил слова, обучающиеся стояли неподвижно, и только как бы в ответ что есть силы били подошвами по каменному полу.
Продолжалось это «обучение» часа по три кряду. Я посчитал, что для произнесения слов и отбития ответов «четверостишия» требовалось шесть секунд. За час, таким образом, эта комбинация выкриков и ударов повторялась шестьсот раз. За три часа, следовательно, тысяча восемьсот раз. «Какое счастье, — подумал я, — что мне здесь нечего читать». С книгой в руках я испытывал бы, вероятно, танталовы муки. К концу третьего часа неумолчного грохота голова моя буквально разламывалась.
К бацающим присоединился и Рука. Ему, надо полагать, более других хотелось достичь совершенства в искусстве этой примитивной чечетки для того, чтобы при случае, тем более в присутствии каких-нибудь воровских дам, показать, ежели доведется, высокий класс и этим как-то компенсировать свой физический недостаток в их глазах. Интересно, что на другой и на третий день пребывания в этой камере мне, как ни странно, удавалось под громовое бацанье засыпать. Скорее всего, однообразное повторение ритма, подобно стуку колес вагона, способствовало засыпанию. Хотя стук колес не идет, оказывается, ни в какое сравнение с железным грохотом со всей силы бацающих ног.
«Эта аудитория — тоже ведь история»
Вечером четвертого дня нашего пребывания в пересылке, сразу же после завтрака, человек шесть из нашей камеры, в том числе Мыша, Руку, еще трех блатных с нижних нар и меня, вызвали с вещами. Нам выдали сухой паек, отвезли в «воронке» на вокзал и посадили в столыпинский вагон поезда, идущего на север. В купе, в которое нас шестерых затолкали, уже находилось несколько заключенных, этапируемых откуда-то издалека. На наше появление они не реагировали. Человека по два сидело на нижних полках. Я опять оказался с краю на нижней полке. На этот раз никто не сидел у меня на коленях.
Мы не знали, куда нас везут — в Воркуту, в Инту или в Каргопольлаг. Некоторые из моих старых и новых попутчиков уже бывали — кто в одном, кто в другом, а кто и во всех трех из этих лагерей. Все они утверждали, что Каргопольлаг — лучшее из этих мест. Хотя бы по климату — север, но все же не за полярным кругом.
В разговорах моих соседей о разных северных лагерях замелькало название столицы Каргопольлага — железнодорожной станции Ерцево. Я услышал это название впервые. Сразу же подумалось — авось, судьба приведет меня именно туда, в Каргопольлаг, в это самое Ерцево. К соображениям на тему, что лесоповал лучше, чем шахта, у меня прибавлялось еще одно. Мой отец, сосланный в 30-м году в Туруханский край, провел десять лет на берегу Енисея в поселке Ярцево. Тринадцати лет отроду я сумел, проделав самостоятельно непростой путь из Ленинграда в Туруханский край, навестить отца. С той поры до нынешнего моего путешествия прошло без малого двадцать лет, и тогдашнее поселение — Ярцево — вспоминалось мне теперь как место, где жить было можно. В Енисее было полно стерляди и всякой другой рыбы. Словом, мне казалось, что будет очень даже здорово, если я окажусь именно в Ерцеве. Игра судьбы получится: отец сидел в Ярцеве, а я в Ерцеве. Может быть, и проживу так же благополучно свои десять лет в Ерцеве, как он свои десять в Ярцеве. И выйду затем на свободу, как вышел отец. Конечно, лагерь не ссылка. Но ведь я моложе и закаленнее отца. Когда он попал в ссылку, ему было уже сорок семь лет, а мне сейчас только тридцать. К тому же отец мой не воевал, а я прошел фронт. К тому же самый трудный и голодный фронт — Ленинградский.
Во время прохода по коридору вагона на оправку удавалось взглянуть в окно. Решетки на окнах «Столыпина» были редкими, и придорожный лес был хорошо виден. Осенний северный лес всегда сказочно красив. А на меня — человека, почти десять месяцев отсидевшего в каменных мешках тюрьмы, не видевшего ни одного зеленого листка, ни единой травинки, — даже недолгий взгляд на него из окна быстро несущегося поезда производил небывало сильное впечатление. «Да, да, — думал я, — хорошо бы остаться именно здесь, в этих краях, в этом красивом лесу. Ведь здесь, как бы ни было тяжко, всегда можно будет поднять глаза и увидеть сквозь зелень вершин вольное небо. Здесь всегда будет слышен вольный шум вечнозеленых сосен и елей, а весной, летом и осенью зеленый шум березовой листвы. Здесь всегда можно вдыхать бодрящий, густой аромат смолы и хвои. Разве можно сравнивать работу в лесу с кротовой работой в угольной шахте, продалбливаемой в тверди вечной мерзлоты…»
Я уже был наслышан о «прелестях» лесоповала. Однако в тот момент, еще не испытав их на своей шкуре, не мог себе и представить, какой она окажется — эта работа на вольном воздухе, под открытым небом, среди бодрящих лесных ароматов. Болотная хлябь под ногами, мириады кровавого гнуса весной и летом, сорокаградусная стужа под открытым небом, с краткими обогревами рук возле костра зимой, аромат древесной прели, смешанный с запахом бензина, заглушающий все запахи леса, постоянная боль во всех костях и суставах, не отпускающая даже ночью во сне, — все это было еще впереди. Тогда, в пути, я еще не знал, что вольное небо над головой скоро покажется мне с овчинку и лишний раз взглянуть на него не очень-то и захочется. Ведь для этого надо будет хотя бы разогнуться. А это, особенно в первое время, будет так тяжело, так больно.
Ехали мы почти сутки. Никаких особенных происшествий не было. Дорожный конвой внушал блатным некоторое уважение. Дежурные конвоиры непрестанно расхаживали навстречу один другому мимо купе-камер. Двери у этих купе заменены в столыпинских вагонах решетками, через которые видно все, что творится внутри. Если, однако, не было приключений, то переживания у меня были.
Когда нас втолкнули ночью в «купе» столыпинского вагона в Вологде, я увидел, что на нижних полках сидят всего по трое каких-то молодых уголовников. При нашем появлении они дали нам знак — не шуметь. Двое из них прикусили кончики своих указательных пальцев. Этот знак заменяет слова — «Тихо! Молчок!» При этом они выразительно показывали глазами наверх. На вторых и третьих полках похрапывали какие-то люди в телогрейках и хромовых сапогах. Их сон и оберегали ехавшие внизу. Я по наивности подумал было, что на верхних полках отдыхают какие-то начальники из охраны. Но потом сообразил, что такого не может быть и что мелкие воры — «шобла» — охраняют покой каких-то важных паханов.