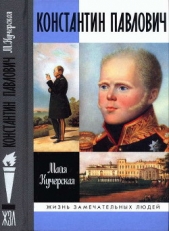К. Р.

К. Р. читать книгу онлайн
Ныне известно всем, что поэт, укрывшийся под криптонимом К.Р., - Великий князь Константин Константинович Романов, внук самодержца Николая I. На стихи К.Р. написаны многие популярные романсы, а слова народной песни «Умер, бедняга» также принадлежат ему. Однако не все знают, что за инициалами К.Р. скрыт и большой государственный деятель — воин на море и на суше, георгиевский кавалер, командир знаменитого Преображенского полка, многолетний президент Российской академии наук, организатор научных экспедиций в Каракумы, на Шпицберген, Землю Санникова, создатель Пушкинского Дома и первого в России высшего учебного заведения для женщин, а также первых комиссий помощи нуждающимся литераторам, ученым, музыкантам. В его дружественный круг входили самые блестящие люди России: Достоевский, Гончаров, Фет, Майков, Полонский, Чайковский, Глазунов, Васнецов, Репин, Кони, адмирал Макаров, Софья Ковалевская… Это документальное повествование — одна из первых попыток жизнеописания выдающегося человека, сложного, драматичного, но безусловно принадлежащего золотому фонду русской культуры и истории верного сына отечества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Счастье, что письма не пришли в один день или в одну неделю, иначе можно было бы не устоять на «поэтических» ногах.
Когда туман рассеялся, прояснились советы и похвалы, а К. Р., как любой начинающий поэт, жаждал поощрения.
Первая и общая похвала была за искренность души и чувств. «Чувство может быть и мировое, и религиозное, и общественное, и личное, сердечное чувство, но в поэзии все зависит от того, какая душа выносила их», — настаивал Полонский.
«Так много свежести, искренности, наивности в самом лучшем смысле этого слова… Содержание… прямо из души. Оно состоит из очень чистых, молодых, добросердечных чувств и мыслей», — писал Страхов.
«Удивительная искренность, чудная задушевная чистота — и все это в весенней обстановке юности… В стихотворениях у Вас есть один мотив, который… остается господствующим… Это победа духа, это победа долга — есть истинный, единственный христианский выход из-под жизненных бурь, это спасение, это залог многого доброго. И так как он в ряде стихотворений перевивается с другим мотивом — с любовью к России, — то как же не назвать впечатление — радостным?!» — спрашивал, утверждая, Майков.
«Юность, искренность, победа долга — все это приятно слышать. Но есть ли у меня талант и дарование?» — пытался найти в письмах ответ К. Р.
«В книге собрано много чисто субъективных лирических излияний, — писал Гончаров. — Слышатся нежные, грустные, томные, как в Эоловой арфе, звуки. Такая Эолова арфа есть у всех молодых поэтов… Большая часть пишет подражательно, с чужого голоса… Они не из себя добывают содержание для своей Эоловой арфы, а с ветра, лишь бы вышли стихи. У Вашего Высочества — наоборот. Вы сами — источник Ваших излияний… Поэтому я и признал эту искренность — вместе со страстью Вашей к поэзии, вообще искусству, к литературе — одним из значительных признаков таланта».
Фет, кажется, это подтверждал. По-другому, но подтверждал. Он, как-то читая «Новое время», наткнулся на стихи неизвестного автора и как поэт, прочувствовавший поэта, обрадовался и прочитал их поэту, критику и философу Владимиру Сергеевичу Соловьеву.
— Чьи стихи? — спросил Соловьев.
— Не знаю!
Соловьев заглянул в газету и объяснил загадку букв К. Р.
«… Я прежде был побежден поэтом, чем Великим князем. Факт этот может быть удостоверен», — написал старик Фет молодому собрату.
Надеясь на способность Великого князя «уловлять явления на лету» и в ответ на его стихотворение «Я — баловень судьбы…», Афанасий Афанасьевич рассказал о своей поэтической судьбе, в которой была небывалая слава, сменившаяся пренебрежительностью, издевательствами, грубостью, обещаниями его стихами обклеивать комнаты, заворачивать в них сальные свечи, мещерский сыр и копченую рыбу. Потом его забыли совсем. И он уже не надеялся, что чья-то «благосклонная рука потреплет лавры старика». «Легко судить о моей сердечной радости, когда рука эта оказалась рукою Вашего Высочества, — писал старый поэт. — Трепетный факел с вечерним мерцанием, / Сна непробудного чуя истому, / Немощен силой, но горд упованием, / Вестнику света сдаю молодому».
Фет признавал в нем поэта! Страхов называл три свойства К. Р., показывающие дарование: первое — мысль не тянется, не расплывается, второе — есть звучные стихи. Третье — своеобразие стиха, свой звук, своя манера и плавность.
В спокойном письме, с извинениями за мешкотность и медленно складывающиеся в голове мысли, Страхов строго подвел черту: «Книжка — только обещание. Но очень решительное».
Майков указал на похвальное знакомство молодого поэта со Священным Писанием, а в умении закончить стих счастливым оборотом мысли видел влияние Тютчева. «Дается это умение только истинным дарованиям», — подчеркнул он.
Какие же стихотворения отметили мэтры? Константину одновременно хотелось и единодушия мнений, и их разнообразия. Так и вышло. Гончаров лучшими в книге считал три стихотворения: «Гой, измайловцы лихие…», «Лагерные заметки» и «Умер» («Умер, бедняга!..»). «Не знаю, какую цену Вы сами изволите придавать этим стихотворениям, но, что касается меня, я нахожу, что это три перла Вашей юной музы и что в них, таких маленьких вещах, заключено сжато более признаков серьезного таланта, нежели во всем, что Вами написано, переведено и переложено прежде».
Фет тоже утверждал, что не прирожденный поэт вовеки не напишет «Гой, измайловцы лихие…», где каждый стих и свободен, и безупречно щеголеват, как офицер на царском смотру, но… «все-таки этот род не может один упрочить поэтического кредита», — сбивал он спесь с молодого автора. И выстроил в ряд стихи, которые более отвечали его идеалу лирического стихотворения. Константин увидел в списке «Письмо: опять те алые цветы…», «Я нарву вам цветов к именинам…», «Уж гасли в комнатах огни…», «Как жаль, что розы отцветают…», «Распустилась черемуха в нашем саду…». Но он не назвал ни армейских стихов, ни переложения библейских сюжетов. «Значит, я не ударил по надлежащей струне и не нашел момента вдохновения», — убеждал себя Константин словами Фета.
Яков Петрович Полонский сознался Великому князю, что хотел промолчать, получив сборник стихов. И промолчал бы, если бы книга не носила на себе печать дарования и не было ясно, что поэт не остановится на первых опытах, а будет совершенствоваться, любя поэзию серьезно.
Константин улыбнулся, представив себе старого поэта, высокого, сухопарого, с длинной седой бородой. Вот он ходит по кабинету, опираясь на палку, сильно прихрамывая, взглядывает на развешанные картины — под старость Полонский взялся за кисть — и размышляет, как бы это прилично поступить с книгой, которая лежит у него на письменном столе и смущает его, и затрудняет ответ.
«Не помню, — написал Полонский, — кто-то мне говорил, что Вы дилетант в поэзии, а хвалить Вас следует, потому что Вы единственное лицо из Царской Фамилии, которое после Екатерины Великой настолько любит и понимает значение литературы, что само берется за перо, переводит, пишет — умственному труду посвящает свои досуги… Но кто мне говорил — ошибается… Читая книжку Вашего Высочества, я провижу в ней нечто более существенное, чем простой дилетантизм».
— Моего «Возрожденного Манфреда» почти не заметили… Я впервые пробовал себя в драме, вернее в драматическом отрывке. Хотел изобразить Манфреда в его загробной жизни и начал там, где Байрон закончил свою поэму. [30]Фет не сказал ни слова. Страхов даже не заметил, Майков написал, что по поводу «Манфреда» можно о многом поговорить. Но не поговорил. Суждения Гончарова и Полонского противоречивы. Иван Александрович категорически сказал, что «Манфред», скопированный с колоссальных образцов Байрона и Гёте, [31]— бледен. Он — плод ума, а не сердца и фантазии… Короче говоря, обругал.
Константин ходил кругами вокруг кресла жены. Лиза что-то вышивала, но бросила рукоделие и стала внимательно слушать.
— И Полонский так думает?
— Не совсем. Он смеется над тем, что «Новое время» обозвало моего «Манфреда» «мистерией», как что-то туманное и неудобопонятное. А ему все понятно, и смысл драмы, и ее стихи он считает получше ямбов моего перевода «Мессинской невесты» Шиллера.
— Так что же тебя заботит?
— Сам не пойму. Полонский, в отличие от Гончарова, хвалит стихи, в которых я одушевил тучи, гром, молнию, их разговоры между собой. Пишет, стихи эти так хороши, что, когда он прочел их сыну, тот пришел в восторг и закричал: «Ставь пять с крестом!» — это высший балл в его гимназии.
— Ну и поставил? — Лиза, засмеявшись, встала и поцеловала мужа. — Вот видишь…
— Не поставил… Пишет, что стих «О прибрежье скал…» с ударением на «О» неблагозвучен. Гончаров сердится…
— Не может этот добрый, любезный человек сердиться. Он просто, по его же словам, болен неизлечимой болезнью — старостью, и потому бывает раздражителен. Прочитай мне его слова о «Манфреде».