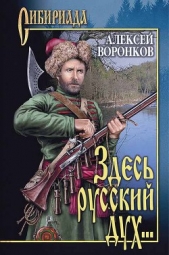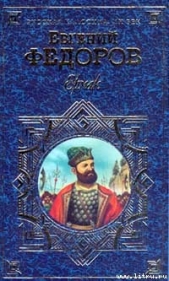Дар бесценный

Дар бесценный читать книгу онлайн
Жизнь каждого подлинного художника — подвиг. О творческом подвиге одного из великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу внучка его Наталья Петровна Кончаловская.
И может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца-деда доводится воспеть поэтессе-внучке, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Суриков стоял в углу — небольшой, бледный, чернобородый, — скомкав шапку в руках. Стоял весь словно сжавшийся в комок, не отрываясь от профиля начетчицы. Он больше ничего не видел и не слышал. Настасья Михайловна вдруг почуяла этот взгляд и повернулась к Сурикову лицом. Оно было твердое и встревоженное. Глаза в глубоких орбитах пристально вглядывались в темноту. В лице этом была неистовость духа и отречение от всего земного. Суриков едва сдержался, чтобы не ахнуть громко, на всю церковь. Он постоял с минуту и вышел прочь…
На следующее утро в церковном палисаднике был за два часа написан знаменитый этюд головы боярыни Морозовой. Обрядив Настасью Михайловну в высокую шапку и черный плат, он писал ее единым духом, единой мыслью, счастливо-нашедший то, чего искал годами.
Вернувшись, он никого дома не застал. Да это было и к лучшему! Он кнопками приколол этюд к краю картины, поглядел на него еще раз и, пошатываясь, словно от потрясения, ушел в спальню, лег в постель и немедля заснул чуть ли не на целые сутки…
Елизавета Августовна пришла с детьми с прогулки и не на шутку испугалась, узнав от Фени, что «барин спят».
«А вдруг опять воспаление легких?» — с тревогой подумала она, а потом приоткрыла дверь, заглянула в мастерскую и все поняла.
Признание
На пятнадцатой передвижной выставке два события взволновали весь художественный мир: картина Поленова «Христос и грешница» и картина Сурикова «Боярыня Морозова». И чем сильнее и интереснее произведение, тем больше яростных споров вокруг него.
Полтора года не утихали толки о «Боярыне Морозовой». «…Фигура «боярыни» служит центром картины. Темная, суровая, она вся горит внутренним огнем, но это огонь, который только сжигает, а не светит. Изможденное, когда-то красивое лицо, впалые глаза, полуоткрытый криком рот, и во всех чертах — сильно отмеченное ударом суровой кисти несложное выражение фанатизма… Она так бесстрашно идет на муку и этим будит невольное сочувствие. Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно на гибель за то, что он считает истиной…» — писал В. Г. Короленко.
Но критик Воскресенский из журнала «Художественные новости», умалчивая о том, что боярыня Морозова шла против царя, против духовенства, выступает с такими требованиями:
«…Страдания и смерть за веру встречались с умилением. Устранить умиление, значит не понять сущность раскола… А этого умиления не видно ни в толпе, ни в лице Морозовой… Воинствующая Морозова, закованная в цепи, представляет воплощение бессильного упрямства…»
Бессильное упрямство? Но совсем иное видится Всеволоду Гаршину.
«…Картина Сурикова удивительно ярко представляет эту замечательную женщину. Всякий, кто знает ее печальную историю, я уверен в том, навсегда будет покорен художником и не будет в состоянии представить себе Федосью Прокопьевну иначе, как она изображена на его картине…» Газета «Сын отечества» обрушилась на Сурикова: «…В картине Сурикова сказывается беспощадный, грубый реализм. Кисть художника проявила себя таким же серым, будничным и грубым образом, какова разработка сюжета, каков сам сюжет, который воплощает в себе сектантское изуверство, грозное, мрачное, дикое».
А в это же самое время Павел Петрович Чистяков писал Савинскому о картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»: «В картине этой столько жизни, столько правды и сути, — этой бесшабашной, бесконтрольной людской глупости, просто увлекаешься и прощаешь всякую технику… Молодец Василий Иванович!»
«…Мастерской рисунок и страшная сила красок придает всем лицам такой рельеф, такую неоспоримую жизненность, на которые тяжело смотреть. Весь кортеж перед вами движется, в каждом движенье этой толпы, в лицах, смеющихся, то полных глубокой скорби, чувствуется именно стихийная сила…» — писал критик, под псевдонимом «Житель». А в «Русских ведомостях» негодовал Сизов: «…За исключением нескольких фигур, картина вообще страдает отсутствием техники… Направление Сурикова не имеет за собой никакой будущности, — оно представляет регресс, а не прогресс в искусстве…»
Но самое нелепое мнение было высказано в журнале «Всемирная иллюстрация»:
«…Вы видите множество лиц, и на каждом из них отдельное выражение, но где коллективное настроение толпы? Для нас совершенно безразлично, что думает мальчишка, бегущий позади саней… Но мы хотим знать целое, общий вывод… За эстетикой художник не гонится… Он реалист… Его реализму недостает необходимой условности… Будь он немного больше художником, и ему удалось бы объективизировать заинтересовавшее его историческое событие…»
Так зарапортовался критик, требуя условности и объективизации вместе. Стасов, который в первых статьях о выставке не очень ясно выражал свое отношение к «Боярыне Морозовой», после всех этих нападок решил выступить открыто:
«…Суриков — просто гениальный человек. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе… Тут и трагедия, и комедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Ему равны только «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь Игорь».
Так шумел весь художественный мир вокруг новой работы Сурикова. И чем яростней нападали реакционные подголоски, тем горячее поддерживали истинные ценители искусства. Так пришло признание. Суриков становился в первые ряды русских живописцев.
В мае 1887 года Третьяков покупает «Боярыню Морозову» за 15 000 рублей. Снова независимость! Теперь можно и отдохнуть и поехать на родину! В начале июня Суриковы сдали всю мебель и вещи на хранение. Собрали в дорогу баулы и саквояжи, расплатились с хозяином, Збуком, и съехали с квартиры, которая им больше была не нужна: громадный холст «Боярыни», требовавший двусветного зала, висел в галерее Третьякова…
И пришел тот долгожданный вечер, когда от дома Збука отъехали и покатились по пыльным улицам Москвы две пролетки. Одна везла Василия Ивановича с вещами, другая — Елизавету Августовну с детьми на вокзал, с платформы которого далеко был виден зеленый глазок стрелочного фонаря, открывавший Василию Ивановичу путь домой — в Сибирь!
«Пора бежать!»
— Стой, стой, ямщик! — Василий Иванович легко постучал по спине ямщика ладонью. — Остановись-ка здесь, ненадолго… Едем давно, устали, размяться надо…
Тройка остановилась, Василий Иванович соскочил с громадного тарантаса с кожаным верхом и подхватил на руки дочерей. Коренастый, тугой на ухо ямщик, в красной рубахе, в порыжевшей от солнца черной поддевке, в занятном высоком картузе, подал заскорузлую руку Елизавете Августовне и помог ей вылезти.
В парижской клетчатой накидке, соломенной шляпке с пером, в легких остроносых туфельках, встала она на глухом широком тракте, уходящем далеко за горизонт, а с двух сторон вплотную подступила тайга. В теплом ветре качались на обочине стебли фиолетового иван-чая, что вытянулся выше человеческого роста. Воздух был насыщен медовым ароматом июньского цветения, пронизан стрекотанием кузнечиков, шмелиным гудением и стоном мошки.
Елизавета Августовна беспокойно озиралась в этой яркой, дикой, солнечной глуши. Рядом с ямщиком, похожим в своей растопыренной книзу поддевке на глухаря, она выглядела заморской диковинной птицей, залетевшей вместо пальмовой рощи в частый ельник.
Девочки, опасливо оглядываясь, вошли в густую траву, но через минуту, освоившись, уже щебетали, собирая лесные колокольчики, гвоздики, ромашки.
Василий Иванович, не теряя времени, уселся на пенек и, окуная кисть в пузырек с водой, приладился рисовать распряженных коней. Они похрустывали травой, шумно хлопали себя по бокам длинными хвостами, отгоняя оводов, вздыхали, мотали челками и нервно подергивали лоснящейся шерстью.
Елизавета Августовна медленно брела по обочине, подобрав длинную юбку с оборками. В тарантасе осталась сидеть только одна парижская кукла Верочка, белокурая, почему-то не улыбающаяся, как все куклы, а серьезная. Она уставилась удивленными серыми глазами в сибирское небо, как и три года назад удивлялась неаполитанскому. Елизавета Августовна посмотрела на нее и засмеялась: