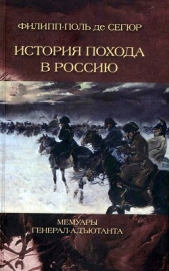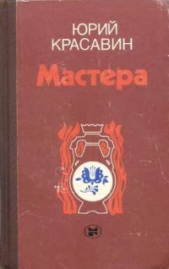Суперпрофессия
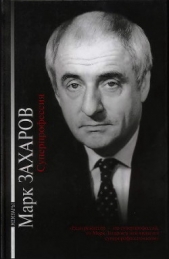
Суперпрофессия читать книгу онлайн
По мнению Марка Захарова, режиссер — это суперпрофессия, ибо он совмещает в себе черты драматурга и актера, художника и инженера и еще с десяток театральных профессий. А еще режиссер должен быть поэтом и политиком, дипломатом и хозяйственником, философом и… иногда просто тираном.
Если режиссер — это действительно суперпрофессия, то нельзя не признать, что Марк Захаров в ней является суперпрофессионалом. Иначе чем объяснить, что каждая постановка в возглавляемом им Ленкоме становится подлинным событием для театралов, а любители кино видят в фильмах Захарова только один недостаток — то, что они выходят на экраны далеко не ежегодно…
В своей книге Марк Захаров вспоминает о нелегком пути к вершинам своей суперпрофессии о многих забавных, а порой и грустных эпизодах, приключившихся на театральных репетициях и киносъемках, рассказывает об актерах труппы Ленкома Евгении Леонове и Татьяне Пельтцер, Олеге Янковском и Инне Чуриковой, Николае Караченцове и Леониде Броневом, а также о спектаклях и фильмах, уже вошедших в золотой фонд нашего искусства — "Тиле" и "Мюнхгаузене", "Юноне и Авось" и "Обыкновенном чуде", "Поминальной молитве" и "Убить Дракона"…
Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы А. Стернина и В. Плотникова
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда я пишу эти строки, то почти физически чувствую смрадную тяжесть чеченской войны и, хуже того, в голову залетают уже совсем «несвоевременные мысли» — так когда-то отозвался о подобных отклонениях в мышлении наш «великий пролетарский писатель».
Мне издавна не дает покоя тоска по профессионализму в любом и каждом деле. «Не должно было быть в Чечне войны!» — мысль более чем банальная, но моя личная боль в другом: «Должна была быть мощная, жестокая и молниеносная полицейская операция». Мне очень стыдно, но я так думаю. И для меня целостность российской державы — не пустой звук. Хуже того, я думаю и о другом.
Оккупация Чехословакии в 1968 году, против которой по-разному протестовала вся интеллигенция России, в том числе и я сам, сегодня пусть самым наивным образом (уже рассказывал) воспринимается мною иначе, чем несколько лет назад. Сегодня я думаю, что события 1968 года есть демонстративный сокрушительный марш высокопрофессиональной армии с наисовременнейшим по тем временам и, более того, непревзойденным оперативным и стратегическим мышлением. Все «блицкриги» по сравнению с этой филигранной операцией — замедленно-топорные мясорубки, включая «Бурю в пустыне», не говоря уже о косовских бомбометаниях НАТО.
Я рискнул упомянуть о невоенной, скорее — о феноменально выполненной полицейской, бескровной акции, не слишком мучаясь угрызениями совести. Почему? Потому что вторжение советской армии 68 года — смертельный приговор «социализму с человеческим лицом». Это убийственное, всемирно-историческое доказательство, что такого лица на базе коммунистической доктрины нет ни в теории, ни в практике. Это широко объявленное завершение коммунистической эры в Европе, и остается только сказать спасибо чешским братьям за этот мужественный вклад в историю мировой цивилизации. Да, именно так я думаю: сказать «спасибо» и одновременно внести операцию по захвату Чехословакии во все военные учебники, что, надеюсь, сделано и без моих советов.
Мой вредоносный поток «заграничного» сознания отнес меня далеко от парижских встреч 1983 года с нашими земляками и их потомками.
Было страшно интересно разговаривать с людьми, говорящими на другом русском языке. Впервые я столкнулся с этим феноменом, общаясь в Париже с господином Домеником, владельцем русского ресторана на Монпарнасе. Он пригласил меня на ужин в свою ресторацию, а потом домой, где показал уникальную коллекцию российского антиквариата.
Наша беседа состояла из красиво выстроенных, сочных и напевных фраз господина Доменика с нестандартными прилагательными и обилием витиеватых деепричастных оборотов, где, независимо от протяженности фразы, падежные окончания изящно выстроенных суждений всегда сходились по законам русской грамматической гармонии и отличались парадоксальной свежестью с хорошо различимым — чисто фонетически — отличием от моих ответных чириканий. Я с ужасом обнаружил в своей речи нечто воробьиное, скоротечно-торопливое, выплевывание очень коротких предложений, тяготеющих к незавершенности и подлым многоточиям. Музыку — бывшего белоэмигранта я в изобилии посыпал фразами-недомерками.
Те же самые чувства некоторой разговорной ущербности я позднее испытал в беседах с графиней М. В. Олсуфьевой. Ее семья владела когда-то особняком на Поварской улице, где располагался долгие годы могучий и единый Союз советских писателей. Графине однажды было разрешено посетить Москву, и она весьма остроумно и изящно рассказывала мне о тех чувствах, которые испытала, узнав, что в ее бывшей детской располагается партком советских писателей. (Сейчас там, по-моему, банкетный зал ресторана.)
Наша встреча произошла не в 1983 году, а чуть позднее, когда я с театральной спецтургруппой посетил Флоренцию. Несмотря на мое чириканье, я чем-то понравился графине, и она рассказала, что, кроме всего прочего, является старостой общины во флорентийской православной церкви, что церковь располагает прекрасной библиотекой и катастрофически уменьшающимся контингентом читателей Далее, несмотря на поздний вечер, она предложила мне и моим коллегам, приглашенным на ее домашний ужин, посмотреть русский храм на итальянской земле. Моим коллегам предложение не показалось заманчивым, а мне вдруг очень этого захотелось. В результате графиня оказалась за баранкой своего автомобиля, а я ее единственным пассажиром.
Помню печальную русскую церковь в окружении пальм. Это было такое странное и непривычное зрелище, что даже испортилось настроение. Возникло непроизвольное возмущение в связи с итальянскими пальмами и отсутствием берез. Есть у меня такой стойкий рефлекс, а может быть, комплекс: береза — дерево русское. Я, конечно, интернационалист, но если вижу березу за границей, усматриваю в этом непорядок. Не место ей в Европе — должна произрастать в России. В случае если православный храм расположен за российскими пределами — береза имеет право расти рядышком, пожалуйста, но никаких исключений душа не приемлет. Поэтому пальмы, обрамляющие позолоченные церковные маковки, породили тоску и изумление. Я поймал себя на ощущении, что отношусь к русской церкви во Флоренции как к живому существу, вызывающему сострадание.
Графиня отворила кованную дверь, показала иконостас и небольшую комнату, сплошь забитую книгами. Комната напомнила мне пещеру с сокровищами из «Тысячи и одной ночи», только вместо алмазов она сияла именами Бердяева, Флоренского, Соловьева, Ахматовой, Цветаевой, Авторханова, Тэффи, Мережковского… У меня разбежались глаза. Я не предполагал, что очень скоро все это будет издаваться в России и чтение книг великих русских философов, изданных зарубежными издательствами, перестанет считаться преступлением. Со многими произведениями российских эмигрантов я, конечно, был знаком, но дома таких сокровищ у меня не было. Не было в те годы в моей домашней библиотеке ни Ахматовой, ни Мандельштама, ни Цветаевой… Графиня осталась довольна произведенным эффектом и подарила мне неожиданно острое, просто-таки захватывающее дух предложение:
— У нас не осталось больше читателей, — сказала она. — Эти книги теперь никому не нужны из тех людей, кто приходит в наш храм. Вы можете взять с собой столько книг, сколько захотите, правда, с одним условием — вы их не выбросите перед границей и перевезете с собой в Россию. Они — ваши.
На дворе стоял примерно 1984 год, и я храбро воспользовался предложением графини Олсуфьевой. (Храбрость не покидала меня вплоть до пересечения границы в аэропорту Шереметьево-2.)
Пересекать границу с тяжелым чемоданом, набитым книгами не только Ахматовой и Гумилева, но Авторханова. Бердяева и ряда эмигрантов, в том числе философов, принудительно высланных Лениным за пределы советской России, — было крайне небезопасно. Возможно, что это один из весьма смелых поступков в моей жизни, потому что в аэропорту перед получением багажа в душу стал вползать подлый страх. Я начал долгую борьбу за смелый поступок, и борьба шла с переменным успехом, потому что я дважды оборачивался в сторону туалета, расположенного на «нейтральной полосе». Потом понял, что если избавлюсь от книг — перестану себя уважать.
Стараясь не бледнеть перед таможенным досмотром, я приблизился к Олегу Николаевичу Ефремову, которого всегда все узнавали и которому улыбались. Он знал о содержимом моего второго чемодана, ободрил взглядом и старательно улыбнулся таможеннику. Ответная улыбка означала, что чемодан мне тоже открывать не надо.
Конечно, я не предполагал, что «заграничный» поток сознания заставит меня признаться пусть не в серьезном, но преступлении. Впрочем, время оправдало содержимое моего чемодана, и теперь оно не может входить в состав мнимого нарушения некоторых давно устаревших инструкций. Преступление я, как автор, усматриваю в другом в окончательно разбалансированном сознании. Ведь я взялся было рассказывать о парижских контактах с русскими людьми во время гастролей Ленкома в 1983 году…
После первых же встреч с русскими людьми в Париже мы поняли, что живется им, в общем и целом, несладко. Они тянутся друг к другу, испытывают потребность в постоянном общении, пытаются помогать друг другу и сообща бороться с невзгодами. Русский человек, за очень малым исключением, не может сделать во Франции блестящую карьеру, даже если он там родился, не может занять важного высокооплачиваемого поста, выдвинуться по службе — он постоянно встречает некое и весьма ощутимое противодействие, а временами и достаточно устойчивую неприязнь. Похожая ситуация, кстати, в Англии, во многих других европейских странах, вот разве что в США у эмигрантов жизнь может сложиться удачнее.