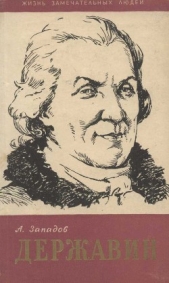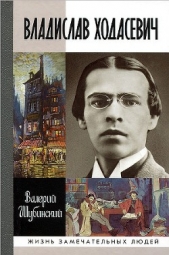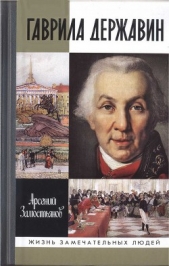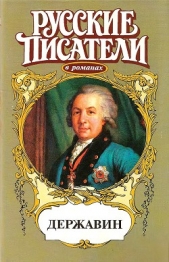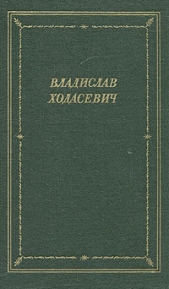Державин
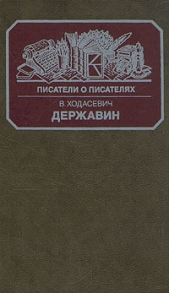
Державин читать книгу онлайн
Книжная судьба В. Ходасевича на родине после шести с лишним десятилетий перерыва продолжается не сборником стихов или воспоминаний, не книгой о Пушкине, но биографией Державина.
Державин интересовал Ходасевича на протяжении всей жизни. Заслуга нового прочтения и нового открытия Державина всецело принадлежит «серебряному веку». Из забвения творчество поэта вывели Б. Садовской, Б. Грифцов.
В. Ходасевич сыграл в этом «открытии» самую значительную роль.
Читателю, который бы хотел познакомиться с судьбой Державина, трудно порекомендовать более ответственное чтение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Причина вспышки была иная. Праздник не достиг цели и тем самым превратился для Потемкина в лишнее унижение. Державин невольно ему напомнил об этом. Разница между торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем глубоко несчастным, который его читал, была нестерпима. Он не вынес и не сдержался, потому что вообще давно отвык сдерживаться. «Князю при дворе тогда очень было плохо», — говорит сам Державин. Зубов усиливался. Репнин, с согласия императрицы, вел с турками переговоры о мире, который должен был положить конец всем потемкинским замыслам. Потемкин метался. В те дни причудам и странностям его не было меры. При встрече народ кланялся ему с благоговением. На гуляньях он являлся, окруженный пленными генералами, офицерами и пашами. Но он знал, что подо всем этим — бездна, конец. Он пьянствовал и не находил себе места. Иногда, вырвавшись из дому, носился по городу, заезжал к малознакомым женщинам, ища утехи; открывал душу пред кем попало; слушателям казалось, что он бормочет нелепицу и сходит с ума. Потом силы его покинули — он изумлял окружающих необычайною кротостью, но ехать к армии все еще не решался: знал, что враги без него восторжествуют окончательно. Императрица сама, наконец, явилась к нему и велела ехать (ни друзья, ни враги не брали на себя передать сие повеление). 24 июля он выехал в Яссы. Там горячка и горе его терзали. 4 октября Попов написал под его диктовку: «Матушка, всемилостивейшая государыня! Нет сил более переносить мне мучения; одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя везти к Николаеву. Не знаю, что будет со мною. Вернейший и благодарнейший подданный». Внизу он сам приписал нетвердым почерком: «Одно спасение уехать». На другой день, в полдень, между Яссами и Николаевом, остановил он коляску:
— Будет теперь, некуда ехать, я умираю, выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле.
Его положили на траву, намочили голову спиртом. Зевнув раза три, он «так покойно умер, как будто свеча, которая вдруг погаснет без малейшего ветра». «Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтоб они закрылись». Через неделю в Петербурге узнали о смерти Потемкина. Державин начал «Водопад».
Эту оду он писал долго, почти три года, составляя ее по частям. Может быть, она оттого несколько потеряла в стройности и в единстве тона, но, кажется, выиграла в широте. Опорною точкой для «Водопада» послужили примерно те же мысли и чувства, которыми некогда была подсказана ода на смерть Мещерского. Державин сам подчеркнул эту связь в строфе, прямо намекающей на начало стихов о Мещерском:
Но контраст, пленивший Державина, был на сей раз иного оттенка. Мало того, что Потемкин был вырван смертью из сказочного великолепия, пред которым богатства Мещерского — ничто: смерти Мещерского не предшествовала и не сопутствовала та личная трагедия, которой отмечена смерть Потемкина и на которую Державин мог только намекнуть — что, в свою очередь, придало его строфам тайную силу, которой они насквозь пропитаны:
Именно потому, что Мещерский был личностью малозначащей, его смерть давала удобный повод для философствований о смерти вообще. Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории. За Потемкиным открывалась его эпоха, которая была в то же время эпохой Екатерины и самого Державина. Императрица, безжалостная к бывшему любимцу в последние месяцы его жизни, долго еще не могла без слез вспоминать о нем. То были не просто нервические слезы сентиментальной, но жестокой женщины. Вспоминая Потемкина, Екатерина оплакивала тот невозвратный государственный пафос, который связал ее с Потемкиным в славнейшие годы царствования. Что поделаешь — Зубову приходилось утирать эти слезы.
Точно так и Державин, не боясь Зубова, писал «Водопад». Вызывая призрак Потемкина, он в то же время обозревал собственное свое прошлое. Он начал с описания Кивача, олонецкого водопада, и в этом описании потаенно связал личную свою жизнь с предметом стихотворения. Далее, в сущности не покидая области воспоминаний, он обратился к тому, чем была оживлена его лира в потемкинскую эпоху. «Водопад» потому и писался частями, что Державин в нем произвел как бы смотр излюбленным своим темам: об игре случая; об олицетворенном в Екатерине государственном эгоизме России, в который все личные судьбы и подвиги впадают, как водопадные реки в озеро, и наконец — о всеобщем мире, в котором должны исчезнуть отдельные государственные эгоизмы. Неудивительно, что при замысле столь обширном Державин на сей раз двинул в бой и все лучшие силы своей поэтики. Словом, «Водопад» стал итогом пройденного пути. Недаром писался он с 1791 по 1794 год, в ту именно пору, когда екатерининская эпоха близилась к своему естественному концу и надвигался перелом в личной жизни самого Державина. Накануне этих событий суждено было разрешиться и тому недоумению, которое долгие годы управляло его судьбой. Екатерина и Державин встретились наконец лицом к лицу.
Общеизвестно стремление Екатерины к ограничению власти Сената. Во второй половине 1791 г. ей представился случай подчинить действия Сената ближайшему своему контролю. Обнаружилось, что 2-й департамент допускает перенос нерешенных дел из одной губернии в другую. Екатерине это показалось незаконно. Желая себя проверить, она поручила Зубову изучить вопрос. Неопытный в делах Зубов частным образом обратился за помощью к Державину, как не раз делал и прежде. Державин дал заключение, совпавшее со взглядом императрицы. Увидя из этого, что Державин не склонен отстаивать интересы Сената, императрица решила поручить ему просмотр всех сенатских меморий и составление особых замечаний о найденных нарушениях закона. Если бы во главе Сената по-прежнему стоял Вяземский, он, может быть, сумел бы предотвратить появление Державина в новой должности. Но Вяземский уже два года лежал в параличе; его заменял Колокольцев, обер-прокурор того самого 2-го департамента, в котором открылись непорядки. Екатерина накричала на Колокольцева, тот растерялся, и назначение Державина состоялось. Официально он был назначен таким же кабинетским секретарем, как Безбородко и Храповицкий. 13 декабря 1791 г. последовал высочайший указ Сенату: «Всемилостивейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений». По этому поводу было много шуму. В иностранных газетах даже писали, будто Екатерина отдала Сенат во власть Державину. Это, конечно, был вздор. Властвовать над Сенатом она собиралась сама. Что же касается Державина, то выбор пал на него довольно случайно. Обратись Зубов к кому-нибудь другому — Екатерина взяла бы другого.
Таковы были обстоятельства, при которых певец Фелицы стал ее секретарем. Во дворце отвели ему комнату для занятий — рядом с комнатой Храповицкого.
В частной жизни Державин был прям, подчас грубоват (мужицкой, солдатскою грубостью), но добр, благодушен, особенно с людьми бедными или ниже его стоящими. Но лишь только дело касалось службы или того, что считал он гражданским долгом, — благодушие тотчас покидало его. Изредка он, пожалуй, и в службе мог быть снисходителен, но не иначе, как с подчиненными: Грибовского в свое время вынул он из петли. Зато чем выше стоял человек, тем взыскательней был Державин, тем менее соглашался ему прощать. К императрице он был беспощаден. От той, которая некогда, хоть неведомо для себя, была его первой наставницею в науке гражданских доблестей, он требовал совершенства.