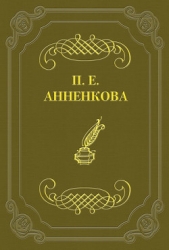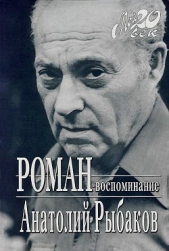Роман-воспоминание

Роман-воспоминание читать книгу онлайн
Судьба Анатолия Рыбакова (1911-1998), автора романов «Тяжелый песок», «Дети Арбата», «Прах и пепел», завоевавших всеобщее признание, вместила в себя ключевые моменты истории нашей страны в XX веке. Долгая жизнь писателя легла на страницы произведения, названного лаконично и всеобъемлюще - «Роман-воспоминание».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
21
19 января 1960 года меня реабилитировали. «Постановление Особого Совещания при коллегии ОГПУ от 9 января 1934 г. отменено... за отсутствием состава преступления. Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР В. Крюков».
В ряду других реабилитаций моя не была большим событием. Мало кто знал, что я сидел в тюрьме, был в ссылке и минусе. Читателям стало об этом известно только через 43 года, когда вышли в свет «Дети Арбата». И после реабилитации я об этом не распространялся: вернулись проведшие в лагерях по десять и больше лет, больные, покалеченные, измученные... Что по сравнению с их страданиями значили мои три года ссылки?
В январе 1958 года на вопрос новогодней анкеты в «Литературной газете» я ответил: «В наступившем году продолжаю работу над романом „Год тридцать третий“», – так первоначально назывались «Дети Арбата».
Я задумал «Детей Арбата» как роман о юности своего поколения. Все мои книги этого цикла в определенном смысле автобиографичны. Но писать тридцатые годы без Сталина невозможно, это сталинская эпоха нашей истории.
Всю свою сознательную жизнь я много думал о Сталине. Думал много, но дневника не вел. Долгие годы даже в карманном блокноте я записывал только названия учреждений, но никогда – фамилии и телефоны своих знакомых: если бы меня посадили, то были бы обречены и мои адресаты. О каком же дневнике могла идти речь? Изъятый при обыске дневник служил вещественным доказательством, записанная в нем крамольная мысль или мысль, истолкованная как крамольная, могли повлечь за собой арест.
Все в стране, и прежде всего писатели, художники, актеры, ученые, институтские и школьные преподаватели, обязаны были возвеличивать Сталина. Это перешло в духовное затмение, идолопоклонство. Стихи в честь Сталина сложили даже Ахматова, Мандельштам, Пастернак. Мандельштам делал это, спасая себя; Ахматова – спасая сына. По свидетельству Корнея Чуковского, Пастернак восторгался Сталиным. «Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью» (оттого, что видели Сталина). А по свидетельству Эренбурга, Пастернак был убежден, что Сталин ничего не знает о беззакониях в стране. «Вот если бы кто-нибудь рассказал об этом Сталину...» Тот же Эренбург приводит слова Мейерхольда: «От Сталина скрывают...» Тоже верил в Сталина, а его вскоре арестовали, пытали.
Из тюрьмы Мейерхольд писал Молотову:
«Меня здесь били, больного шестидесятилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновыми жгутами били по пяткам, по спине, по ногам... И когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток... Этой резиной меня били по лицу, размахами с высоты... Я кричал и плакал от боли... Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин...»
Молотов передал это письмо Сталину. Вот и «узнал товарищ Сталин». Ну и что? А ничего. Расстреляли Мейерхольда, и дело с концом!
«Врагов народа» публично требовали расстрелять Бабель, Тынянов, Маршак, Платонов, Олеша, Зощенко, Гроссман и десятки других писателей. Я называю фамилии тех, кто в представлении интеллигенции были антисталинистами. Наверняка в душе они и были антисталинистами, но писать были обязаны другое. Это совершалось механически, даже не задерживаясь в памяти. Нарушить этот обряд было равносильно богохульству во времена инквизиции, святотатству, за которое возводили на костер.
В 1956 году в Союзе писателей на обсуждении романа Дудинцева «Не хлебом единым» Константин Паустовский сказал, что он, Паустовский, в своих повестях, рассказах, статьях, выступлениях не только не восхвалял Сталина, но даже ни разу не упомянул его имени.
Я любил Паустовского. Мастер слова, честный человек, выступление его на обсуждении романа Дудинцева было блестящим. Но вот что писал он при жизни Сталина: «Мечта о новом высоком строе человеческой жизни и ее расцвете неразрывно связана с именем Сталина. Его прозрением, его волей, его умелой и дружеской рукой осуществляется наше прекрасное будущее в нашем прекрасном настоящем» («Знамя», № 10, 1952).
Это входило в ритуал, такой была форма существования в те времена, Паустовский мог даже забыть об этом, думая о Сталине совсем обратное.
Повторяю: в тех условиях дневник вести я не мог. И все же некоторые записи сохранились. Они были начаты в ссылке, под видом набросков о деятелях Великой французской революции и зашифрованы инициалами Сен-Жюста. Если я имел в виду его самого, то писал инициалы через дефис: С-Ж, если Сталина, то через точку: С.Ж. Так я делал и позже, вернувшись с войны, а после доклада Хрущева писал уже открытым текстом. Именно из-за этих записей вся Арбатская трилогия написана линиями: линия Сталина, Саши, Вари. Потом эти линии я монтировал, соединял. Работы это прибавляло, но, как мне кажется, помогало созданию образа, развитию его в сюжете. Многое осталось неиспользованным: несколько тетрадей. Будет время и возможность, обработаю и опубликую.
Записи отражали мое отношение к Сталину, его роли в истории страны, давали толчок к новым размышлениям. Но для романа этого оказалось недостаточно. Нужно было ввести Сталина в действие, в сюжет, показать его в поступках, в отношениях с людьми, требовалась фактура его жизни.
Я прочитал все сталинские публикации, но издание его собрания сочинений прекратилось на 14-м томе, как раз на нужном мне тридцать четвертом годе. К счастью, в ИМЭЛе [1] сохранилась верстка этого тома, мне удалось добраться до нее, пришлось сидеть там и переписывать. Много работал в Ленинской библиотеке, ездил в Грузию, в Гори, где Сталин родился, в Тбилиси, где он учился, побывал в Баиловской тюрьме в Баку, где он сидел в заключении.
Критические работы о Сталине выходили только за границей, мне они были недоступны, а будь даже доступны, вероятно, я не стал бы их читать, чтобы не проникнуться чужими представлениями, – я хотел создать собственную концепцию. Обвинения Нины Андреевой в том, что я повторяю каких-то авторов, беспочвенны, их имена я узнал из ее собственной статьи.
Я встречался со многими людьми, знавшими Сталина лично. Отсидели свои сроки в лагерях, отбыли ссылки, только что вернулись. Их рассказы неоценимы, каждый воссоздавал какую-то грань сталинского характера.
На заседании Политбюро при обсуждении работы Наркомата путей сообщения к члену коллегии Наркомата Рошалю подошел Сталин, участливо, даже ласково спросил: «Товарищ Рошаль, не обидитесь, если переведем вас на другую работу?» – а ночью Рошаля и других членов коллегии арестовали, мучили в тюрьме и отправили в лагеря. Встречался со Сталиным Каттель, бывший главный инженер Магнитостроя, а потом начальник строительства Комсомольска-на-Амуре, тоже прошедший лагерь и ссылку, по его рассказам я выстраивал в романе линию Марка Рязанова. Со слов зубного врача Сталина Максима Савельевича Липеца написаны сочинские сцены, Липец выведен под фамилией Липман. Разговорить его было трудно, он не разрешил ни магнитофона, ни записей, потом, вернувшись от него домой, мы с Таней восстановили на бумаге все им рассказанное. Уже после выхода романа в свет Липец дал интервью многим газетам, стал известен, даже попал в книгу «Кто есть кто». В разговоре с ним промелькнуло имя сына Сталина Якова Джугашвили, я почувствовал: Липец что-то знает. Но на мои настойчивые вопросы он не ответил: «Сейчас еще рано об этом говорить». Я всегда был убежден, что в гибели Якова Джугашвили Гитлер не нуждался, он не убивал именитых пленников, эта смерть нужна была только одному человеку – Сталину, опасался, что Яков станет орудием в руках врага. Видимо, причастные к этой смерти люди были еще живы и Липец их побаивался. Будем надеяться, что когда-нибудь эта история откроется.