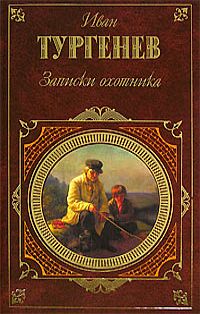Я никогда и нигде не умру

Я никогда и нигде не умру читать книгу онлайн
У нее был талант «излучать свет».
Ее внутренняя душевная мощь дарила неисчерпаемую волю к жизни. Подобно ее соотечественнице Анне Франк, Этти писала дневник, который стал символом мужества и потрясающего жизнелюбия, памятником всем жертвам Холокоста.
Она доверяла бумаге свои мысли и чувства, чтобы не позволить сломать себя трагедии миллионов людей. Как и доктор-психоаналитик Виктор Франкл, Этти Хиллесум спасла от самоубийства сотни человек в лагере, нашла в своей душе бессмертную надежду и поделилась ею с другими.
О ее вере и силе духа в своей проповеди в Пепельную среду 2013 года говорил Папа Римский Бенедикт XVI.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«После этой войны, кроме потока гуманизма, на мир также обрушится поток ненависти». И тогда я снова поняла, что буду воевать с этой ненавистью.
22 сентября [1942]. Надо жить с самим собой так, будто ты живешь с целым народом, и изучать в себе все хорошие и скверные свойства людей. И если ты хочешь простить плохое другим, сначала прости его себе. Это, наверное, самое трудное, чему надо еще человеку учиться. Я часто предлагаю другим (раньше и себе тоже, теперь уже нет) простить себе свои ошибки и заблуждения. К чему в первую очередь относится умение их признать и великодушно с ними примириться.
Я бы с радостью жила, как полевые лилии. Если правильно понять это время, можно было бы у него научиться жить так, как живет полевая лилия.
Как-то раз я записала в своем дневнике, что хотела бы кончиками пальцев ощупать контуры этого времени. Я тогда не знала, как вообще следует подходить к жизни. Не знала по той причине, что не пришла еще к жизни в самой себе. Произошло это, когда я села за этот письменный стол. А потом внезапно я была брошена в средоточие человеческих страданий, на один из маленьких фронтов, разбросанных по всей Европе. И там я вдруг испытала вот что: я начала вычитывать наше время и много больше, чем только время, из человеческих лиц, из тысячи жестов, небольших высказываний, историй чужих жизней. Я заметила, что могу читать в других, потому что научилась читать в себе. При этом, когда чувствительными кончиками пальцев я двигалась вдоль контуров этого времени, мне и вправду часто бывало не по себе. Как это вышло, что обнесенный колючей проволокой кусок пустоши, сквозь который пронеслось столько судеб, потоки человеческого горя, я вспоминаю чуть ли не с умилением? Как случилось, что моя душа там не помрачнела, но, напротив, просветлела? Там я вычитала суть этого времени, и оно больше не кажется мне бессмысленным. Я так сильно любила жизнь здесь, за этим письменным столом, среди моих писателей, поэтов, цветов. И там, в бараках, наполненных взбудораженными, гонимыми людьми, я нашла подтверждение этой любви. Жизнь в тех продуваемых ветром бараках ни в коем случае не противоположна жизни в этой уютной, тихой комнате. Ни на одно мгновение я не была отрезана от жизни, которая будто бы уже и закончилась. Нет, она продолжается, сливаясь в сплошное, наполненное смыслом единое целое. Как должна я когда-нибудь все это описать? Описать так, чтобы другие люди смогли прочувствовать, как прекрасна, бесценна и справедлива, да, справедлива жизнь в своей основе. Может быть, однажды Бог даст мне для этого простые слова? И настолько же яркие, страстные, сильные. Но в первую очередь — простые. Как несколькими полными любви, легкими и все же уверенными касаниями между пустошью и небом нарисовать эти бараки? И как подать другим множество человеческих судеб, которые надо расшифровывать, как иероглифы, штришок за штришком, пока в конце концов не получится большое, отчетливое, понятное целое, обрамленное пустошью и небом?
Одно я знаю теперь доподлинно: никогда не смогу изложить все так, как живыми буквами это делает сама жизнь. Все это я прочла своими глазами и восприняла всеми органами чувств. Никогда не смогу так пересказать. И это могло бы ввергнуть меня в отчаянье, если бы я не знала, что, обладая даже недостаточно большой силой, нужно подойти к своему детищу и работать над ним.
Проходя мимо людей, как мимо пашни, я присматриваюсь, насколько высоко поднялись в них ростки человечности.
Я чувствую, как этот дом медленно начинает от меня ускользать. И это хорошо, на сей раз расставание с ним будет окончательным. Очень осторожно, с большой тоской, но и с уверенностью, что должно быть так и никак иначе, я его отпускаю, день за днем.
С одной рубашкой на теле и с одной в рюкзаке, — как в той сказке Корманна о человеке без рубашки? Король, искавший по всему королевству рубашку своего самого счастливого подданного. Когда же наконец он нашел самого счастливого человека, оказалось, что у того вообще нет рубашки. Кроме рубашки, маленькая Библия и, возможно, поместится еще мой русский словарь и «Рассказы» Толстого. И может, все-таки найдется место для одного тома «Писем» Рильке. И потом еще свитер ручной вязки из чистой овечьей шерсти от одной подруги. О, у меня еще много добра, Господи. А кто-то говорил, что хочет быть лилией на лугу?
Итак, с одной рубашкой в рюкзаке я направляюсь в «неизвестное будущее». Так это называется. Но разве это не та же самая земля под моими повсюду странствующими ногами, и не то же самое — то с луной, то с солнцем — небо? И не забыть еще звезды над моей безумной головой. Зачем же тогда говорить о неизвестном будущем?
23 сентября [1942]. Ненавидя, Клаас [45], мы далеко не уйдем. В действительности вещи совсем не такие, какими они представляются нам в надуманных нами схемах. Вот, к примеру, у нас в лагере есть один работник. В мыслях я часто вижу его перед собой. Более всего в глаза бросается его непреклонный, прямой затылок. Он с такой сильной ненавистью относится к нашим преследователям и, как я предполагаю, имеет для этого веские причины. Но сам он — мучитель. Он был бы образцовым начальником концентрационного лагеря. Я часто наблюдала за ним, когда он стоял на входе в лагерь, встречая своих затравленных собратьев по расе. Это всегда было безотрадным зрелищем. Я также помню, как одному из-за чего-то заплакавшему трехлетнему ребенку он бросил пару липких, черных конфет и прямо-таки по-отечески добавил: «Смотри, не вымажи морду». Теперь я думаю, что в нем было больше неловкости и смущения, чем негодования. Просто он не смог найти верный тон. Между прочим, он слыл толковейшим юристом Голландии, и его проницательные статьи всегда были превосходно сформулированы. (В санчасти повесился человек, не забыть вычеркнуть его из картотеки!) Когда я потом видела его среди людей с его прямым затылком, властным взглядом, с вечной короткой трубкой во рту, всегда думала: «Не хватает только кнута в руке, который бы здорово ему подошел». Но я не чувствую к этому человеку ничего плохого, более того, — он меня очень интересует. Временами я даже испытываю к нему жуткое сострадание. У него такой недовольный, лучше сказать, смертельно несчастный рот. Рот трехлетнего ребенка, который не может добиться от мамы того, что хочет. Между тем ему примерно тридцать. Такой привлекательный тип, известный юрист, отец двоих детей. Но его лицо сохранило рот недовольного трехлетнего ребенка. Разумеется, выросшего и по ходу жизни огрубевшего. Если внимательно присмотреться, он не такой уж привлекательный.
Видишь ли, Клаас, в принципе, это так: хоть он и полон ненависти к тем, кого мы называем нашими палачами, но сам он тоже стал бы отличным палачом и преследователем беззащитных. И все же мне жаль его. Можешь ты это понять? Между ним и его окружением никогда не было дружеских контактов, он мог лишь с жадностью украдкой смотреть, как другие приветливы друг к другу. (Я всегда вижу его, наблюдаю за ним, ведь жизнь там не имеет стен.) Позже я кое-что узнала о нем от одного человека, знавшего его уже много лет. Когда началась война, он выпрыгнул с третьего этажа, однако разбиться — что, очевидно, было его целью — ему не удалось. Потом он попытался броситься под машину, но и это не вышло. После этого он несколько месяцев провел в сумасшедшем доме. Это был страх, чистый страх. Он был в высшей степени блестящим, проницательным юристом, во время дискуссий между специалистами его слово всегда было последним и решающим. Но в критический момент он от страха выбрасывается из окна. Я слышала также, что его жена должна была по дому ходить на цыпочках, так как он не выносил шума, и что он был груб со своими детьми, которые страшно его боялись. Глубоко, глубоко сочувствую ему. Что же это за жизнь?