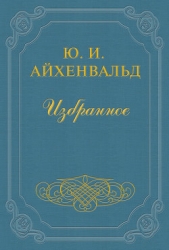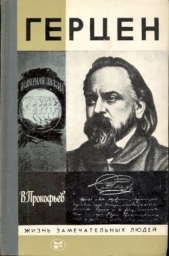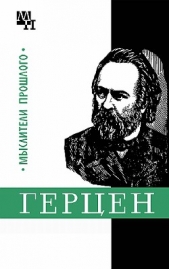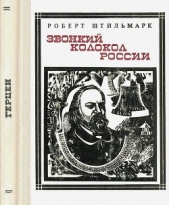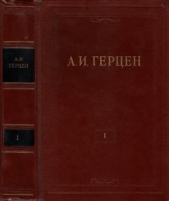Герцен
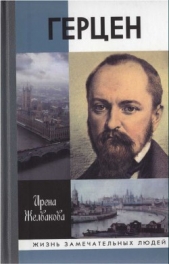
Герцен читать книгу онлайн
Автор жизнеописания Герцена — бессменный руководитель Дома-музея А. И. Герцена, историк, переводчик и литератор И. А. Желвакова — поставила перед собой непростую задачу — достоверно, интересно и объективно рассказать о Герцене. Ведь им самим создана блестящая автобиография — Былое и думы, а жизнь писателя и его литературное творчество давно стали предметом исследований в многочисленных книгах и научных трактатах.
И. А. Желвакова привлекла новые документы, изобразительные материалы, семейные реликвии, полученные ею в дар для музея от зарубежных потомков писателя; сопоставила концепции и факты, правдиво дополнив биографию Герцена, и непредвзято, без идеологического тумана, рассмотрела его жизнь и судьбу. В результате перед нами не персонаж из учебника, а живой, страстный и очень красивый человек феноменальных способностей, окруживший себя столь же одаренными, нестандартно мыслящими людьми. Через всю свою жизнь Герцен пронес идеал свободы личности, хотя видел, как мрак превращается в небесный свет и… наоборот.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поневоле предашься воспоминаниям. Вот уж это «благо» никто отнять не может, даже власть.
«Обстановка, рамки, полувнешнее, полупостороннее», казалось бы, далекое от начал, составляющих сущность нашей жизни, — а как много все это значит. Знакомый город, улицы, «домы». И ведь у каждого — своя физиономия, свой характер, своя переменчивость. Кто-то верно сказал, что дома, как старые приятели; к ним, как к людям, либо влечет, либо отталкивает. Но все-таки главная их сила — в таинстве воспоминаний. Взглянешь на дом Огарева, что на Никитской, — сразу встанет в памяти заветная комната с красными, в золотую полоску обоями, и явится мысль: бурная юная жизнь — позади. Перелистаешь при случае старую повесть «Легенда» и тут — тот свободный вид на Москву из Крутиц, который не перекроет даже тюремная решетка: «огромный пестрый гигант, распростертый на сорок верст», по-прежнему сверкнет «своею чешуею». И поверх всех впечатлений — раздольная панорама Первопрестольной со святых холмов — Воробьевых гор, утвердившегося во времени символа судьбы.
Что за Москва в это время? Точнее, в 1840-е годы позапрошлого столетия. Статистические сведения легко извлекаются из отчетов и путеводителей по «столичному граду». «В Москве 350 тысяч жителей, 12 тысяч домов, 400 церквей. Москва разделена на 17 частей, подразделяемых в свою очередь на кварталы». Труднее представить норов города, жизнь, повадки каждого из кварталов, ту «народную деятельность» (как выразился очевидец), которая одна только и может оживить могучий организм гиганта.
П. Ф. Вистенгофу, современнику Герцена, автору «Очерков московской жизни» (подоспевших с выходом как раз к 1842 году), человеку весьма наблюдательному, это удалось, и более всего — передать жизненные ритмы Москвы. Город у него, как сцена, постепенно заполняется все новыми декорациями, реквизитом и разнообразными персонажами.
Поутру, когда Москва еще спит глубоким сном, на улицы выползают возы с дровами. Подмосковные мужики везут на рынки обозы с овощами и другим нужным товаром. Пахнет горячим хлебом в калашнях. Через некоторое время замечаются на улицах спешащие за покупками кухарки, а за ними «повара с кульками». Тут уж подоспели «калиберные извозчики, а зимой санные ваньки». Дворники с метлами выходят, потягиваясь. Водовозы на клячах тянутся за водой к фонтанам. Нищие пробираются к заутрени. Пьяницы несутся опрометью в кабак. Кучера обхаживают своих лошадей. Одна за другой открываются лавки. Шныряют мастеровые мальчики, «хожалый навещает будки».
Восемь часов утра — город окончательно просыпается. Открываются магазины. Спешат купцы. Гувернеры ведут в пансионы детей. Студенты тянутся в университет. Доктора отправляются с визитами. Почтальоны разносят письма. И чиновники, и капельдинеры — все расходятся, разъезжаются по местам своего назначения. Всё спешит, и в 12 часов пополудни мостовая стонет, гудит от неповоротливых экипажей, парных фаэтонов, пролетных дрожек, колясок, карет… В общем, всё свидетельствует о московских «пробках» образца допотопных времен, которые немало создают спешащие в Сенат сенаторы, да щеголихи и щеголи из высшего круга, с делом и без дела навещающие Кузнецкий Мост.
Пестрая толпа, как говорится, «смесь одежд и лиц», к четырем часам умолкает понемногу, и постепенно сцена пустеет. Город обедает, отдыхает. Тишина. И разве только недисциплинированная дворняжка нарушит эту нирвану да случайный прохожий, вышедший не по своей воле. К семи часам вечера старая столица расцветает. Праздная жизнь бурлит. «Толпы гуляющих наполняют сады и парки». Дворянство несется на дачи.
«Зимою, едва только начинается разъезд у Большого театра, как со всех концов Москвы тянется в несколько рядов бесконечная цепь карет к подъезду Дворянского собрания или на Поварскую, Арбат и Пречистенку, где московские гранды дают балы на славу». Публика спешит в театры и клубы.
Что же до Старой Конюшенной, где издавна угнездились Яковлевы, то тихие городские усадьбы Приарбатья не терпят шума и суеты. Младший современник Александра Ивановича, Петр Алексеевич Кропоткин (только родился в 1842-м), выходец из этого аристократического урочища, названного им Сен-Жерменским предместьем Москвы, свидетельствует о благородном спокойствии этих улиц: «лавки сюда не допускались». Исключение составляла разве «мелочная или овощная лавочка, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви». Зато на углу непременно стояла полицейская будка, и будочник с алебардой не уставал отдавать честь проходившим мимо офицерам.
Возвратившись из ссылок, Герцен как-то по-новому, реалистичнее взглянул на Москву. Понять «физиологию» города, представить его физиономию, нравы его обитателей — не пустое занятие для писателя. «Что и чего не производит русская жизнь!» Уж это-то он знал, помаявшись вдоволь в Вятке, которая под его сатирическим пером превратилась в вымышленный гиперболический Малинов.
Москва вступала в новое десятилетие, а внешне жизнь ее мало менялась. «Вообще, в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господские дома близко друг от друга.
В ней не приходит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных времен, образований, слоев, широт и долгот русских. В ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчивают свой век; но не только они, а и Владимир Ленский и наш чудак Чацкий — Онегиных было даже слишком много. Мало занятые, все они жили не торопясь, без особых забот, спустя рукава».
Это Герцен напишет в «Былом и думах» в 1850-е годы о Москве 1840-х. В 1842 году, исторически сравнивая обе столицы в фельетоне «Москва и Петербург», он отзовется о ней значительно строже: «Люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом…» (К. Батюшков скажет, например: «В Москве отдыхают, в других городах трудятся менее или более, и потому-то в Москве знают скуку со всеми ее мучениями».) Пожалуй, это наблюдение — общее для очевидцев московской жизни позапрошлого века, когда эта тема — «великий вопрос отличия», была столь злободневна, чтобы не сказать, банальна, и варьировалась на все лады.
Можно до бесконечности дивиться узнаваемости давно покинутых мест и московских типических лиц и подтрунивать над старушкой Москвой, которую одновременно и любишь и не любишь, а, в общем-то, по-разному, заново «переживать» ее всякий раз, не давая ей никаких поблажек. То в полемическом задоре Герцен чрезмерно обидит Москву, посмеется вдоволь над ее старушечьими нравами (хотя и Петербург не упустит), потом вдруг обидится за нее и ласковым словом, всколыхнувшимся от какого-нибудь неясного воспоминания, ободрит: «Я ужасно люблю старинные московские дома, окруженные полями, лесами, озерами, парками, скверами, саваннами и степями…» И это притом что «архитектура домов ее уродлива, с ужасными претензиями; домы, или, лучше, хутора ее малы, облеплены колоннами, задавлены фронтонами, огорожены заборами… И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже?»
Остросюжетный фельетон, уже представленный читателю, «заставшему» Герцена в Петербурге, вовсе не отменяет внешнего, крайне любовного приятия Герценом-москвичом старого города, в котором, как он сознался, только и может жить. Москву он вовсе не разлюбил. И особенно Арбат, Сивцев Вражек и всю Старую Конюшенную. В беспорядочном сплетении тихих патриархальных переулков этой старинной слободы всегда обретали покой и красота.
Пройдут годы, и Конюшенная озарится воспоминанием, и появится неудержимое стремление вернуться туда во что бы то ни стало. «Когда ж это мы с вами на старости лет сядем у печки в Старой Конюшенной?..» — спросит изгнанник Герцен у друга Марии Рейхель.
Нынешняя встреча с Москвой, верно, не была вполне радостна. Что-то залегло на дне его души и не давало покоя: мучило, терзало, искало оправданий. Спустя две недели, как покинули Новгород, Герцен записал в дневник: «Ничего не делаю, а внутри сделалось и делается много. Я увлекался, не мог остановиться — и после ахнул. Но в самом раскаянии есть что-то защищающее меня передо мною. Не те ли единственно удерживаются, которые не имеют сильных увлечений? И почему мое увлечение было полно упоения, безумного bien-être [54], на которое обращаясь, я не могу его проклясть? Подл не факт — подл обман».