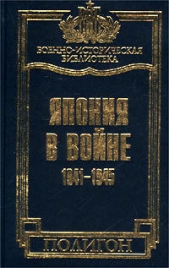Излучения (февраль 1941 — апрель 1945)

Излучения (февраль 1941 — апрель 1945) читать книгу онлайн
«Издав нынешний том сочинений Эрнста Юнгера, издатели серии «Дневники XX века» выполнили свое обещание представить отечественному читателю уникальный памятник художественного творчества и мысли европейской культуры, какими являются, по общей оценке, собрание дневников и созданные на их основе литературные произведения этого замечательного немецкого писателя.»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На обратном пути я проходил мимо группы пленных, работавших под присмотром на дороге. Они расстелили на обочине шинели, и проходящие клали туда иногда свои малые дары. Я видел бумажные деньги, куски хлеба, луковицы и помидоры, из тех, что здесь готовят зелеными в уксусе. Это была первая черточка человечности, увиденная мною в этих местах, если не считать нескольких детских игр и прекрасного товарищества среди немецких солдат. Но в этом эпизоде соединились все: жители в роли дающих, закрывающая на это глаза охрана и несчастные пленные.
Кропоткин, 9 декабря 1942
На следующий вечер отъезд в 17-ю армию курьерским поездом в виде установленной на путях машины, тянувшей грузовой вагон. После недолгой езды из-за вьюги остановились на рельсах на ночь. Так как удалось раздобыть немного дров, маленькая печка грела нас часа два.
Утром прибытие в Кропоткин, где я провел день в ожидании поезда на Белореченскую. В большом холодном зале томились, подобно мне, сотни солдат. Они молча стояли группами или сидели на вещах. В определенный час они устремлялись к окошкам, где получали суп или кофе. В огромном помещении чувствовалось присутствие невероятной силы, которая двигает людьми, оставаясь невидимой для них, — железная титаническая сила. Такое впечатление, что ее волей пропитана каждая жилка, и бессмысленно пытаться познать ее. Если бы удалось наглядно изобразить ее, как на картине, это, без сомнения, было бы большим облегчением. Но это невозможно так же, как историку или романисту невозможно определить направление хода истории. На данном этапе силы, выступившие друг против друга, еще не поименованы.
Мысль, вызванная этим зрелищем: не может быть восстановлена свобода в понимании XIX века, как мечтается многим: ей придется подняться к новым ледяным вершинам хода истории и еще выше, как орлу над уступами первозданного хаоса. И этот путь пройдет через боль. Свободу надо снова заслужить.
Белореченская, 10 декабря 1942
Я покинул Кропоткин с опозданием на пятнадцать часов. Впрочем, слово «опоздание» теряет в этих местах всякий смысл. Впадаешь в вегетативное состояние, когда утрачиваешь и само нетерпение.
Так как ливмя лило, я позволил себе немного почитать в купе при свете свечи. Что касается чтения, я живу теперь à la fortune du pot, [105] читая иногда то, что в другие времена счел бы бесполезным, вроде взятого мной из Ворошиловска «Абу Тельфана» Вильгельма Раабе, {110} которого хвалил еще мой дедушка, учитель, не вызвав, впрочем, жажды познакомиться с этим произведением поближе. Вечная ироническая затейливость этой прозы напоминает позолоченные завитушки, имитирующие рококо, на ореховой мебели той эпохи, например: «Тополя силятся показать, что способны отбрасывать очень длинную тень». Или: «Белый, к сожалению лирически уже использованный нашим славным календарем туман как раз выказывался на лугах».
Провинциальная ирония — вообще типичный симптом XIX века; существуют авторы, у которых это нечто вроде хронической чесотки. Однако теперь в России гибнут не только люди: гибнут также книги, они блекнут, как листья от мороза, и замечаешь, как целые литературы сходят на нет.
Утром прибыл в Белореченскую. Стоя в ожидании на слякотной платформе, я разглядывал великолепно искрящиеся созвездия. Странно, как совсем по-новому действуют они на наш дух, когда мы приближаемся к царству боли. Именно в этом смысле упоминается о них у Боэция в его прекрасных последних стихах.
В предназначавшейся мне постели были два водителя, машины которых застряли в грязи. В хижине было только одно разделенное пополам большой печью помещение, где еще на двух кроватях спали хозяйка и ее подруга. Они улеглись вместе, а я занял освободившееся таким образом нагретое ложе.
Днем я был у командующего, генерал-полковника Руоффа, которому передал привет от его предшественника Генриха фон Штюльпнагеля. Разговор о позициях. Как в первую мировую войну самой большой угрозой был холод, так теперь, по крайней мере на этом участке фронта, мокрота и сырость еще более разлагающе действуют на людей. Войска расположились во влажных лесах, большей частью в землянках, так как наступление три недели тому назад остановилось. Наводнения снесли мосты через ручьи и реки, снабжение прекратилось. Даже летчики ничего не могут сбросить над тонущими в тумане лесами. Так что напряжение достигло высшего предела, за которым умирают от упадка сил.
Днем я присутствовал на допросе девятнадцатилетнего русского лейтенанта, попавшего в плен. Неопределенное лицо, немного девичье, с нежным, еще не знавшим бритья пухом. На юноше меховая шапка из ягненка, в руках длинный посох. Крестьянский сын, затем учеба на инженера, перед тем, как попал в плен, — командир роты гранатометчиков. Крестьянин, ставший слесарем, — весь вид говорит за это. В движениях рук тяжеловесность, степенность; видно, что эти руки еще не забыли работу с деревом, хотя уже привыкли к железу.
Разговор с офицером, который вел допрос, прибалтийцем, сравнившем Россию со стаканом молока, с которого снят слой сливок. Новый еще не образовался, или в нем нет уже прошлого вкуса. Да, это весьма наглядно. Остается только спросить, что за сладость растворена в тонкой структуре молока. Она вновь могла бы подняться в мирные времена. Иными словами: проник ли ужасный нож отвлеченной идеи в самое нутро индивидуума до его плодоносной основы? Хотелось бы сказать: нет, основываясь исключительно на своих впечатлениях от того, о чем говорят лица и голоса людей.
Но вернемся к действительности: странно, прежде чем до меня дошло, что случилось, с потолка отвалился тяжелый кусок и оставил дыру, своими очертаниями напоминающую Сицилию.
Белореченская, 11 декабря 1942
Так как ночью ударил мороз, я совершил прогулку по местности, чьи утонувшие в грязи дороги я вчера счел непроходимыми. Сегодня они, точно деревенские пруды, покрыты блестящим льдом. Дома небольшие, одноэтажные, покрытые камышом, дранкой и крашенной суриком жестью. У тростниковых крыш нижние слои — из крепких стеблей, верхние, наоборот, — из метелок растений, что придает им вид голов с желтыми чубами. Странен род балдахина, украшающего вход в государственные здания, служащего частично для защиты ступеней от дождя, частично для придания пышности всему строению. Это, по-видимому, пришло в архитектурный стиль из жизни в палатках. Частенько лист жести, покрывающий навес над входом, восходит к украшению в виде кистей и бахромы.
Внутри жилищ нередки теплолюбивые растения, фикус или лимоны с висящими на них плодами. Маленькие помещения с большими печами напоминают теплицы. В садах и по краям широких дорог в изобилии высятся тополя, похожее на метлу дерево преображается в солнечном свете.
Маленькое солдатское кладбище хранит кроме нескольких сбитых над этой местностью летчиков также тела умерших в полевом лазарете. Насыпаны и снабжены крестами тридцать могил, также какое-то их количество вырыто про запас, что мастер Антон в геббелевской «Марии Магдалине» считает кощунством.
Затем у реки Белой. По ней несется высокая, вся в воронках, грязно-серая вода. По берегам протянулись полевые позиции с заграждениями и гнездами для стрелков вдоль них. Группы женщин работали там под присмотром саперов. В лощине — мертвая лошадь, с остова которой мясо срезано до последней жилки. Город с его деревянными амбарами и замшелыми крышами неплохо выглядит отсюда; чувствуется создаваемая трудом рук жизнь, заметно органическое выветривание, в условиях которого приходится здесь обитать.
Затем у моей хозяйки, фрау Вали, уменьшительное от Валентины. Муж ее отсутствует с начала войны, он в противохимическом полевом отряде. С ней шестнадцатилетняя подруга Виктория, дочь врача, говорящая немного по-немецки, читавшая Шиллера, которого она, как почти все ее соотечественники, почитает в качестве образцового поэта. «О, Шиллер, здорово!» Девушка собирается в Германию, отправке в которую она подлежит. Гимназистка, ее подруги по классу, которым уже за шестнадцать, были мобилизованы в партизаны. Она рассказывает о четырнадцатилетней подруге, застреленной у реки, хоть и без всякой черствости, но перенося при этом события совсем в иную, чем область чувств, сферу. Это произвело на меня сильное впечатление.