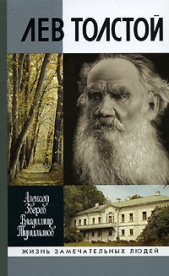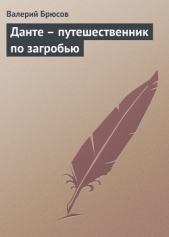Религия

Религия читать книгу онлайн
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого — прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа — все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И ежели тут сохраняется «почти», ежели все еще называет он свое безбожие религией и не говорит в сердце своем с окончательным цинизмом: «нет Бога» (кто знает, впрочем, может быть, уже и говорит?), то только потому, что так мало думает о Боге, так забыл о Нем, что не удостаивает он эту жалкую метафизическую развалину, «тень тени», даже последним великодушным ударом, последним отрицанием.
Итак, вот весь пройденный Л. Толстым религиозный путь: начал тем, что поверил в Ничто; кончил тем, что не верит ни во что; начал с незапамятно-древнего буддийского нигилизма; кончил даже не вчерашним, а третьегодняшним, отрыгнувшимся русским, базаровским нигилизмом.
Да, слово Тургенева верно: Л. Толстой в своей религии без Бога — обыкновеннейший, только несколько запоздалый и потому застыдившийся, русский нигилист шестидесятых годов.
То же самое, что с Богом-Отцом, произошло у него и с Сыном Божиим.
«Христианское ученье, — говорит Л. Толстой, — возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не себя — животного, а себя — Бога, искры Божьей, себя — сына Божья, Бога такого же, как и Отец, но заключенного в животную оболочку». Как выражение «Бог-Отец» — к слишком неопределенному понятию «добро», так и выражение «сын Божий» из отдельного существительного становится только прилагательным к слишком определенному явлению: «человек Иисус, живший при Пилате Понтийском». И тут снова ветхозаветный дядя Ерошка перетягивает в свою сторону новозаветного старца Акима, но опять-таки не до конца, а только до середины. Евангельские отношения Отца и Сына нечувствительно подменяются толстовскими отношениями «Хозяина и работника». Бог Израиля, Бог «поядающей ревности», окруженный громами и молниями, от лица которого «тают горы, как воск», бежит земля и небо, — Которого люди не могут назвать, потому что имя Его слишком страшно, — подобрел, ослабел, но все-таки Отца Небесного из Него не вышло, а вышел только «Хозяин» небесный; это практичнее, современнее, это и нашим, и вашим. Человек приблизился к Богу, перестал быть совсем рабом, но и совсем свободным не сделался, Сына Божьего из него не вышло, а вышел божий «работник», божий наемник — полураб, полусвободный.
Не переносятся ли здесь в религию сословные отношения, наступившие в современном русском обществе после шестидесятых годов, после крестьянской реформы, именно в том помещичьем «средне-высшем», как выразился Достоевский, мещански-барском кругу, из которого возник сам Л. Толстой? Не отражается ли здесь в свете метафизическом наша самая унылая «злоба дня»?
«Хозяин» и «работник», «барин» и «мужик» — яснополянский барин и яснополянский мужик. Что такое «хозяин»? Бывший господин, утративший безграничную власть над телом и душой рабов, сохранивший только половину этой власти не de jure, [9] a de facto, [10] — то есть бывший добрый или, лучше сказать, добродушный барин Пьер Безухов, Нехлюдов и будущий барин — кулак Брехунов с «ястребиными глазами». Что такое «работник»? Бывший раб, бывший крепостной, дворовый и будущий пролетарий, то есть хоть чуточку бывший лакей Лаврушка и будущий лакей Смердяков. «Ты наш Отец, а мы твои дети»? Нет, это так было когда-то, а теперь иначе: теперь — «ты наш хозяин, а мы твои работники, твои наемники; волю нам дали, а есть все-таки нечего, вот мы и работаем на Тебя, работаем пока: сегодня на тебя, а завтра на другого». Тут уже не «Отец наш, который на небе», а символический разговор яснополянского мужичонки с барином Львом Николаевичем: «Барин, дай жеребеночка». — «Никакого жеребеночка у меня нет». — «Нет есть!» — «Ну, ступай с Богом. Я ничего этого не знаю».
Ведь это именно так; ведь я не искажаю, а только обнажаю то, что сделал Л. Толстой; ведь недаром же столь утонченные, столь пламенеющие религиозным огнем и, вместе с тем, столь родные, кровные, евангельские символы Отчей любви, Сыновней свободы подменил он своими собственными символами, столь сравнительно холодных, внешних, грубых отношений, как отношения Хозяина и Работника: ведь совершился же при этой, пусть даже нечаянной, подмене какой-то невосполнимый, но зато играющий в руку нигилисту Л. Толстому, ущерб святости.
Сын знает Отца; раб не знает Господина; работник отчасти знает, отчасти не знает Хозяина; он больше умствует, хвастает тем, что знает барина: «Я знаю, что Ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, вот же Тебе твой талант». Это — расчет хозяина и работника. Работник не может «войти в радость господина своего», а разве только в прибыль хозяина. «Мужиков надо держать вот как!» — говаривал, показывая свой крепко сжатый кулак, Николай Ростов, тоже хозяин. И небесный Хозяин у Л. Толстого держит работников своих «вот как»: он загоняет их, как зайцев, ухающими пугалами смерти и страданий «на дорогу любви». Какая же, однако, любовь, какая свобода, ежели «пугалы»? — «Я как-то думал, — признается Л. Толстой, — как больно, что люди живут не по-Божьи, и вдруг мне стало ясно, что закон не будет нарушен, только проигрыш остается за человеком. Он же не исполнил как человек, — исполнит его как животное, как, еще ниже, кусок разлагающейся плоти. Для меня это стало ясно и утешительно». Страшная ясность, неимоверная утешительность! Ведь не может Л. Толстой не сознавать, что от начала мира до возникновения толстовской религии никто или почти никто, даже сам он, Лев Николаевич, закона любви так, как он его понимает, сознательно не исполнил. И, следовательно, почти все человечество, за исключением семи, да и то, кажется, сомнительных, потому что бессознательных, праведников, не более, как «разлагающаяся плоть», смрадная падаль. И это-то находит он с точки зрения той самой любви, которую проповедовал Бог на земле, не только ясным, разумным, справедливым, но и «утешительным». — Господь не хочет погибели грешных, но чтобы все спаслись. «Истинно, истинно говорю вам, ангелы на небесах радуются о едином кающемся грешнике более, нежели о десяти праведниках». Так для Бога, так для Сына Божьего. Но не так с хозяйской, толстовской точки зрения. «Их надо держать вот как!» Почти все живое погибнет — туда ему и дорога. Работник входит в прибыль хозяина своего — ведь «проигрыш» все-таки за человеком, хозяйский расчет не нарушен, а об остальном ему горя мало. Было ли когда-либо вообще произнесено не более жестокое, а только более жесткое, грубое, холодное, «нехристианское» слово о христианской любви? «Этот человек никогда никого не любил», — вспоминается слово Тургенева и слово князя Андрея: «Всех любить значит никого не любить». Вот, что такое эта любовь — не любовь, свободная любовь из-под палки, из-под плети, из-под ухающих пугал. «Дитя мое, отдай мне свое сердце» — ведь все равно, если не отдашь, проигрыш за тобою, ты будешь куском разлагающейся плоти. Понятно, что, слыша такой призыв Отца, умирающий Амиель дрожит, как затравленный заяц; понятно, что Иван Ильич, пролезая в узкий черный мешок, в который толкает его «неодолимая, невидимая сила», «бьется, как жертва в руках палача». И уж если бы, по крайней мере, откровенно и только — Палач. А то наполовину Палач, наполовину Отец. Я не знаю в истории всех религий ничего ужаснее, ничего безобразнее, чем этот толстовский Хозяин, Палач небесный, притворившийся Отцом небесным, этот яснополянский помещичий Бог с не добрым, а только добродушным лицом бурлака-философа Левина, Пьера, Нехлюдова, из-за которого выглядывает ястребиное лицо кулака Брехунова. Ежели я не могу быть сыном Отца Небесного, то не хочу быть и «работником» такого Хозяина — пусть уж лучше я буду по-прежнему рабом, дрожащею тварью, даже «куском разлагающейся плоти» — это все-таки менее позорно и жестоко.
Слишком религиозное, евангельское понятие о сыновности людей Богу, в конце концов, оказывается неудобным для «христианства» Л. Толстого, и он всеми силами старается вытравить это понятие из Евангелия. В книге «Учение 12 апостолов», переводя греческий подлинник, повсюду тщательно заменяет он слово «Сын» словом «отрок»: вместо «Иисус, Сын Божий» — «Иисус, отрок Божий». «Сын» — слишком дорого, «раб» — слишком дешево; «отрок» — как раз по сходной цене; отрок — полу-раб, полу-сын: опять-таки нечто «средне-высшее», «серединка-на-половинке». Мало того: против всякой очевидности, с непостижимым цинизмом — трудно решить, исторической ли недобросовестности или фанатического ослепления — утверждает Л. Толстой, что Христос никогда не считал себя Единородным Сыном Божиим. «Иисус, — уверяет он, — считал себя таким же человеком, как и другие люди. — Никогда не отрицая сыновности Богу, Он никогда не приписывает ей никакого особенного значения. — Что Ему стоило прямо сказать: Я — Бог, хоть не прямо сказать, а, по крайней мере, не иносказательно, не так, чтобы можно было без всякого желания дурного понять это иначе. А то Он сказал так, что нельзя понять иначе, как так, что Он прямо утверждал многим, что он не Бог». С точки зрения философского рационализма можно отвергать мистическую сущность Евангелия — понятие о Единородной Сыновности, как это делали Штраус и Ренан. Но ведь уже конечно ни Штраус, ни Ренан не осмелились бы утверждать, будто бы «человек Иисус», живший при Пилате Понтийском, такой, каким он изображен в евангельских подлинниках, — а ведь иных изображений, иных «документов» мы вовсе не имеем — не считал Себя Единородным Сыном Божиим, ибо подобное утверждение было бы вопиющею историческою нелепостью. «Что Ему стоило прямо сказать: Я — Бог?» — спрашивает Л. Толстой. Что же, однако, значат эти Евангельские слова: «Дана Мне всякая власть на земле и на небе. Я и Отец — одно». Это ли еще не прямо, не ясно? В математических формулах нет большей ясности. Да за что же, наконец, и распят был Иисус? — «И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ты ничего не отвечаешь? что они против тебя свидетельствуют? — Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? — Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных. — Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! Как вам кажется? — Они же сказали в ответ: повинен смерти» (Матфея XXVI, 62–66). После таких свидетельств утверждать, будто бы во всем Евангелии нет ни одного места, из которого следовало бы заключить, что Христос считает себя «не человеком, как все», а Сыном Божиим, — едва ли возможно, по выражению Л. Толстого, «без другого желания». Чтобы этого свидетельства не слышать, надо заткнуть уши. Тут уж действительно, кажется, происходит с ним нечто необъяснимое, похожее на мгновенное умопомрачение. Так ли, впрочем, необъяснимое? Не оставалось ли ему одно из двух: или окончательно отвергнуть всю религиозную сущность Евангелия — учение о всеобщей сыновности людей Богу, слишком неразрывно, ежели не мистически, то, по крайней мере, исторически связанное с учением о Единородной Сыновности; но ничего бесповоротного и окончательного, как мы видели, «умствующий» Л. Толстой не переносит; или же — лгать перед самим собою, но лгать уже до потери здравого смысла, умопомрачения. Л. Толстой и выбрал последнее.