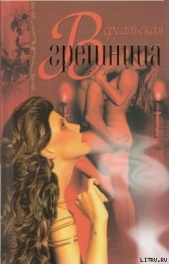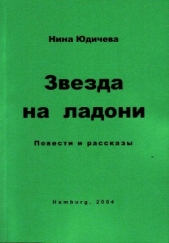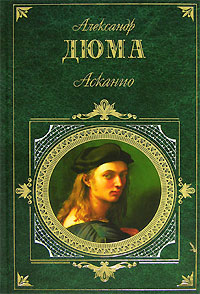Жизнь Бенвенуто Челлини

Жизнь Бенвенуто Челлини читать книгу онлайн
Жизнеописание ювелира и скульптора Бенвенуто Челлини (1500–1571) — одно из самых замечательных произведений литературы XVI века, в полной мере отражающее дух итальянского Возрождения. Это увлекательный рассказ о достойно прожитой жизни, отмеченной большими творческими дерзаниями, увенчавшимися успехом благодаря независимому духу и непреклонной энергии человека. О становлении своего таланта и о драматических эпизодах своей судьбы Челлини рассказал богатым разговорным языком, обладающим своеобразным и незабываемым очарованием. Перевод с итальянского М. Лозинского
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
LXXXVII
Тем временем я отослал в Рим преданнейшего Феличе позаботиться о тамошних делах. Приподняв немного голову от подушки, что случилось по прошествии двух недель, хоть я и не мог ступать ногами, я велел себя отнести во дворец Медичи, наверх, где маленькая терраса; так я велел себя посадить, чтобы подождать герцога, пока он пройдет. И, подходя со мной беседовать, многие мои придворные друзья весьма удивлялись, что я взял на себя такое беспокойство и велел принести себя этим способом, будучи от болезни в таком плохом состоянии, говоря мне, что я бы должен сначала подождать, пока буду здоров, а потом уже представиться герцогу. Их собралось много, и все смотрели на меня, как на чудо; не только потому, что они слышали, что я умер, но еще больше казалось им чудом, что я кажусь им мертвецом. Тогда я сказал, в присутствии всех, как какой-то гнусный негодяй сказал моему господину герцогу, будто я хвастал, что хотел бы первым взойти на стены его светлости, и затем будто я говорил дурное про него; поэтому у меня не хватает духу ни жить, ни умереть, если я сначала не очищусь от этого позора, и узнать, кто тот дерзкий негодяй, кто сделал этот ложный донос. При этих словах собралось большое множество этих вельмож; и так как они выказывали, что имеют ко мне превеликое сочувствие, и один говорил одно, а другой другое, то я сказал, что ни за что не желаю уйти отсюда, пока не узнаю, кто тот, кто меня обвинял. При этих словах подошел среди всех этих вельмож маэстро Агостино, герцогский портной, и сказал: «Если ты только это хочешь узнать, то сейчас узнаешь». Как раз проходил вышесказанный Джорджо, живописец; тогда маэстро Агостино сказал: «Вот кто тебя обвинял; теперь можешь узнать сам, правда это или нет». Я смело, притом что я не мог двигаться, спросил Джорджо, правда ли это. Сказанный Джорджо сказал, что нет, что это неправда и что он никогда этого не говорил. Маэстро Агостино сказал: «Ах, висельник, или ты не знаешь, что я это знаю наверное?» Тотчас же Джорджо ушел и сказал, что нет, что это не он. Прошло малое время, и вышел герцог; тут я сразу же велел приподнять меня перед его светлостью, и он остановился. Тогда я сказал, что я явился сюда этим способом, единственно чтобы оправдаться. Герцог посмотрел на меня и удивился, что я жив; потом сказал мне, чтобы я старался быть честным человеком и выздороветь. Когда я вернулся домой, Никколо да Монте Агуто пришел меня проведать и сказал мне, что я избежал одной из гроз, величайшей на свете, которой бы он никогда не поверил; потому что он видел мою беду, написанную непреложными чернилами, и чтобы я старался поскорее поправиться, а потом уезжал себе с Богом, потому что она идет из такого места и от человека, который сделал бы мне худо. И, сказав «берегись», он мне сказал: «Чем ты досадил этому мерзавцу Оттавиано де'Медичи?» Я ему сказал, что я ему никогда ничем не досаждал, а что он мне досаждал изрядно; и когда я ему рассказал весь случай с монетным двором, он мне сказал: «Уезжай с Богом, как можно скорее, и будь покоен, потому что скорее, чем ты думаешь, ты увидишь себя отомщенным». Я старался поправиться; дал наставление Пьетро Паголо насчет чеканки монет; потом уехал с Богом, возвращаясь в Рим, не сказав ни герцогу и никому.
LXXXVIII
Прибыв в Рим и много повеселившись с моими друзьями, я начал герцогскую медаль; и уже сделал в несколько дней голову на стали, лучшая работа, которую я когда-либо делал в этом роде, и ко мне заходил каждый день по меньшей мере раз некий дурачина, по имени мессер Франческо Содерини; [218] и, видя, что я делаю, много раз мне говорил: «Ах, изверг, так ты хочешь нам обессмертить этого бешеного тирана! А так как ты никогда еще не делал ничего прекраснее, то по этому видно, что ты наш заклятый враг, и такой уж их друг, хоть и папа, и он дважды хотели тебя без вины повесить; то были отец и сын; теперь берегись святого духа». Считали за верное, что герцог Лессандро был сыном папы Климента. [219] Еще говорил сказанный мессер Франческо и клялся определенно, что, если бы он мог, то он бы у меня украл эти чеканы от этой медали. На что я сказал, что он хорошо сделал, что сказал мне это, и что я их так буду беречь, что он никогда больше их не увидит. Я дал знать во Флоренцию, чтобы сказали Лоренцино, [220] чтобы он мне прислал оборот медали. Никколо да Монте Агуто, которому я написал, написал мне так, говоря мне, что спрашивал об этом этого сумасшедшего, меланхолического философа Лоренцино; каковой ему сказал, что днем и ночью ни о чем другом не думает и что он это сделает, как только сможет; однако он мне сказал, чтобы я не возлагал надежды на его оборот и чтобы я сделал таковой сам по собственному моему измышлению; и что, когда я его кончу, чтобы я свободно принес его герцогу, и благо мне будет. Сделав рисунок оборота, который казался мне подходящим, и со всем усердием, с каким я мог, я подвигал его вперед; но так как я еще не оправился от этой непомерной болезни, я находил великое удовольствие в том, чтобы ходить на охоту с моей пищалью вместе с этим моим дорогим Феличе, каковой ничего не умел делать в моем искусстве, но так как постоянно, и дни, и ночи, мы бывали вместе, то всякий воображал себе, что он весьма превосходен в искусстве. Поэтому, так как он был большой забавник, мы тысячу раз с ним смеялись над этой великой славой, которую он приобрел; а так как его звали Феличе Гуаданьи, то он говорил, балагуря со мной: «Мне бы следовало называться Феличе Guadagni-poco, если бы вы не помогли мне приобрести столь великую славу, что я могу именовать себя Guadagni-assai». [221] А я ему говорил, что есть два способа зарабатывать: первый, это когда зарабатываешь для себя, а второй, это когда зарабатываешь для других; так что я хвалю в нем гораздо больше этот второй способ, нежели первый, потому что он заработал мне жизнь. Эти разговоры бывали у нас много и много раз, но среди прочих однажды в Крещение, когда мы с ним были возле Мальяны, и уже почти кончался день; в каковой день я убил из своей пищали весьма изрядно уток и гусей; и так как я почти решил не стрелять больше, то засветло мы повернули поспешно к Риму. Позвав свою собаку, каковую я звал по имени Барукко, не видя ее перед собой, я обернулся и увидел, что сказанная ученая собака делает стойку над некоими гусями, которые уселись в канаве. Поэтому я тотчас же слез; изготовив свою добрую пищаль, я очень издалека по ним выстрелил и попал в двоих одной пулей; потому что я никогда не желал стрелять иначе, как одной пулей, каковой я стрелял на двести локтей и по большей части попадал; а другими способами нельзя этого сделать; так что когда я попал в обоих гусей, один почти что мертвый, а другой раненый, и так как раненый кое-как летал, то моя собака за ним погналась и принесла мне его, а другого, видя, что он погружается в канаву, я к нему бросился. Полагаясь на свои сапоги, которые были очень высокие, подавши ногу вперед, подо мной расступилась почва; хоть гуся я и достал, сапог у меня на правой ноге был весь полон воды. Подняв ногу в воздух, я слил воду, и, сев на коней, мы торопились вернуться в Рим; но так как было очень холодно, то я чувствовал, что у меня так леденеет нога, что я сказал Феличе: «Нужно помочь этой ноге, потому что я больше не вижу способа, чтобы можно было это терпеть». Добрый Феличе, ни слова не говоря, слез с коня и, набрав чертополоху и сучьев и приготовившись развести огонь, в то время как я ожидал, положив руки промеж грудных перьев этих самых гусей, и почувствовал великое тепло; поэтому я не дал разводить никакого огня, а наполнил этот мой сапог этими гусиными перьями и сразу же почувствовал такое облегчение, что ожил.