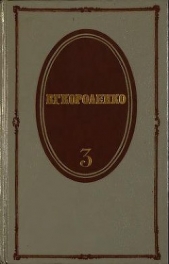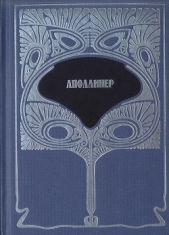Рассказы о писателях
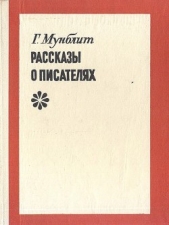
Рассказы о писателях читать книгу онлайн
Эта книга - воспоминания критика и кинодраматурга Георгия Николаевича Мунблита о писателях, с которыми он встречался, дружил и работал. Это рассказы о невымышленных героях и невымышленных событиях.
Черты биографии и душевного облика Э. Багрицкого, И. Бабеля, А. Макаренко, Ю. Германа, М. Зощенко, И. Исакова, И. Ильфа, Е. Петрова, описания встреч с В. Маяковским, Б. Пастернаком, М. Левидовым, А. Луначарским, О. Мандельштамом - все это предстает здесь в сюжетных коллизиях, отличительная особенность которых в совершенной их достоверности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, образ этот у Гроссмана упрощен и неверен, он взят не из жизни, а из литературы, он - та самая округлая, легко проведенная линия, подсказанная рукой, держащей карандаш, которую следует преодолеть, чтобы верно изобразить жизнь во всей ее сложности и полноте».
Легко заметить, что в этом давнем и, на сегодняшний мой взгляд, неосмотрительном моем сочинении не было и тени намерения высмеять и предать осуждению героев подполья и участников гражданской войны, жертвующих жизнью и пренебрегающих своим благополучием потому, что иначе было нельзя и дело этого требовало. Вовсе нет. Но в середине тридцатых годов страна начала строиться и ей потребовались другие люди. Привело это к тому, что литераторы моего поколения в начале тридцатых годов были одушевлены пришествием нового «героя нашего времени» и изо всех сил пытались представить его себе и помочь ему родиться. Он должен был знать и любить свое дело или, по крайней мере, этому делу учиться - новый человек, которого мы себе навоображали, - он должен был быть деловитым, умным, обладать чувством юмора, должен был уметь рационально использовать свои и чужие силы, быть непримиримым врагом штурмовщины, безалаберщины, верхоглядства, короче говоря, этот ангел во плоти должен был быть новым - в полном и подлинном смысле героем нашего времени.
Щербаков просто не понял меня. Следовало это ему объяснить и помочь ему, недавнему тогда руководителю Союза писателей, разобраться в таком очевидном для меня и для моих единомышленников умонастроении молодых литераторов.
Озабоченный этим намерением, я на следующее утро, созвонившись с секретаршей и узнав, что Щербаков принимает, отправился в «дом Ростовых».
Все благоприятствовало мне в это утро. И погода, и трамвай, сразу же подкатившийся к остановке, и безлюдный в этот ранний час вестибюль Союза писателей, и гостеприимная, как мне почудилось секретарша... И только, войдя в кабинет секретаря, я усомнился в том, что мир так прост и прекрасен.
Все было мрачным и неприветливым в этом кабинете - и самый этот кабинет, и его хозяин.
Он был занят, когда я вошел, сосредоточенно листая и делая какие-то пометки в большом, красивом блокноте, лежащем перед ним на столе. Так занят и так поглощен этим занятием, что не ответил мне на приветствие и не предложил сесть.
Но в ту пору я тоже не мог похвастаться воспитанностью и тактом. И, не дождавшись приглашения, с полной непринужденностью, изобразив на лице доброжелательную улыбку, уселся против него. Эта улыбка часто мне потом вспоминалась, причем воспоминание это, скажем прямо, было не из приятных.
Молчание затягивалось, и, убрав с лица улыбку, я стал оглядывать кабинет и по тогдашней своей манере прежде всего попытался определить - сколько моих девятиметровых комнатушек могло бы в нем уместиться. Выходило, на глаз, что-то не меньше шести. Кабинет был заставлен тяжелой мебелью. Кресла, и в том числе то, в котором я сидел, были явно рассчитаны на то чтобы сидящий в них посетитель сразу же потерял присутствие духа - такие они были глубокие и так мало возвышались над полом. Диван был огромным и преследовал те же цели. Но тут мои наблюдения были прерваны.
- Я вас слушаю, - сказал Щербаков.
Очнувшись, но сразу же позабыв все, что намерен был сказать, я принялся заново истолковывать моему собеседнику смысл моей статьи и намерения, с которыми я ее написал, причем даже мне самому она, в нынешнем моем изложении, показалась неинтересной и непонятно зачем написанной.
Мой собеседник, судя по его виду, слушал меня с почти демонстративным невниманием.
И вдруг все происходящее мне представилось увиденным его глазами.
Вчера он завершил то, что было ему поручено. Завершил успешно, во всяком случае аудитория была им покорена. Теперь все пойдет «наверх» и им будут довольны. Зачем же ему нужен этот незваный докучливый посетитель, которого он, прорабатывая, даже называл «товарищем», а ведь это многого стоит. Что ему еще нужно?
И так все это складно выстроилось в моем воображении, что мне стало ясно: нужно кончать разговор и как можно скорее уйти. Но тут зазвонил телефон, и мой собеседник, отключившись от меня, и каким-то совсем другим, чем он говорил со мной, голосом принялся обсуждать достоинства и недостатки какого-то неведомого мне Мокрецова. А я, теперь уже без всякого интереса, стал рассматривать кабинет и его хозяина.
Такие они были непоколебимые, тяжеловесные, уверенные в себе... И мне вспомнилось требование Щербакова, обращенное к писателям, - «подравниваться под общий фронт советской литературы», вспомнилось усталое, но такое неповторимо «свое» лицо Андрея Платоновича Платонова, вспомнились насмешливые «независимые» рассказы Михаила Булгакова, с которым несколько дней назад меня познакомил Ильф, и сам Ильф, с его светлым даром находить и показывать смешное там, где никто, кроме него, ничего смешного не видел... И это к таким, как они, он смел обращаться с такой «программой»? Нет, поистине непосильную задачу взвалил на свои круглые плечи этот человек, пытаясь «управлять» литературой такими негодными средствами!
И, дождавшись конца телефонного разговора, я вдруг озлился и спросил:
- А что обо мне писали эти... наши враги. Покажите мне. Если я действительно виноват...
Но он не дал мне договорить. И, жестом остановив меня, заявил:
- Я не уполномочен знакомить вас с белогвардейской литературой и не намерен...
Но тут уж я его прервал:
- Вы что, боитесь, что, прочитав белогвардейскую газету, я стану белогвардейцем?
- Не на-ме-рен! - повторил Щербаков, повысив голос.
Не помню - что уж тут было мной сказано, но, видимо, и я тоже заговорил громче, чем полагалось. Во всяком случае, в дубовой панели, окаймлявшей стены кабинета, открылась невидимая до того дверца и из нее вышел хорошо мне известный таджикский поэт Лахути. Гневно посмотрев на меня, он на цыпочках подбежал к Щербакову и стал с ласковой заботливостью поглаживать его по плечу.
Тут меня осенило: «Уж не считают ли хозяин кабинета и его друг, что нынешняя их работа может довести до гибели на посту?» - подумалось мне.
И, ошеломленный этим предположением, я пошел к двери, почти не попрощавшись.
* * *
А через несколько дней мне стало известно - решительно не помню откуда, - что «белогвардеец», по словам Щербакова, «рукоплескавший мне», был давно любимый и уважаемый мной поэт Владислав Ходасевич.
1984
ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Маленькая повесть
Все последнее время у Саши Белова было очень много забот. Начались холода, люди на постройке работали вяло, вопрос об опалубке все еще не был решен. Куницын доказывал, что предложение Белова требует тщательной проверки, ждали приезда на стройку заместителя министра, который намерен был сам во всем разобраться, и настроение у всех было до крайности напряженное. С утра в большой, тесно заставленной чертежными столами комнате бюро организации работ были зажжены все лампы. За окнами стояла сизая морозная мгла, чуть подсвеченная оранжевым зимним солнцем, и Саше с его места были видны покачивающиеся в окне пушистые от инея провода, от которых по временам отрывались и падали легкие белые хлопья.
Куницын вошел неслышно, мягко ступая, подошел к столу Верочки Шаховой, скосив глаза, из-под очков поглядел на чертеж, над которым она склонилась, и недовольно поморщился.
- Не нравится? - спросила Верочка низким, грудным голосом, что служило у нее признаком крайнего раздражения.
- Н-да, - протянул Куницын. Это не было ответом на Верочкин вопрос - он явно думал сейчас о другом, но Верочка смерила его презрительным взглядом и, пожав плечами, снова принялась за работу.
Куницын подсел к Сашиному столу, вынул из кармана портсигар, достал из него сигарету, переломил ее пополам, вставил в прокуренный мундштук и закурил, выпустив изо рта и из носа облако густого, медленно расплывающегося дыма.
- Вполне хватает половины, - сказал он, указывая на сигарету. - И вреда меньше, и дешевле вдвое. Не так ли?