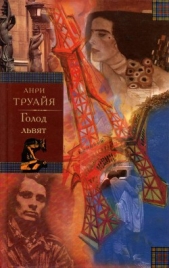Бодлер
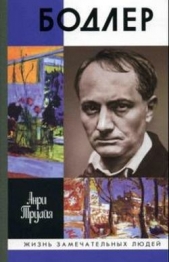
Бодлер читать книгу онлайн
Шарль Бодлер — одно из ключевых имен французской литературы XIX века. Его «Цветы зла» стали настольной книгой и в России, в каком-то смысле определив направление, по которому стала развиваться русская литература в конце XIX — начале XX столетия. Его жизнь, полная страстей, увлечений и разочарований, — еще одно произведение искусства, которое оставил нам Бодлер.
Автор книги Анри Труайя (настоящее имя Лев Тарасов) — старейший и общепризнанный мастер биографического жанра, его перу принадлежат многочисленные биографии деятелей литературы и искусства, а также крупнейших исторических персонажей XVIII–XX веков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одним словом, Сент-Бёв упрекал Бодлера в том, что тот — Бодлер, а не Теодор де Банвиль или Теофиль Готье. Более суровый «урок» получил автор «Цветов зла» от Луи Менара, своего старого товарища по лицею Людовика Великого. Тот не простил бесцеремонной шутки Шарля в «Корсаре» по поводу его «Освобожденного Прометея». Теперь Менар взял реванш, опубликовав злобную статью в «Философском и религиозном журнале» за сентябрь 1857 года. Он подверг сомнению искренность Бодлера, описывающего свои сатанинские развлечения. По его мнению, автор — «скорее всего какой-нибудь долговязый, немного неуклюжий парень в длинном черном сюртуке, с желтым цветом лица, подслеповатыми глазами и шевелюрой семинариста. Сколько бы он ни писал о паразитах и скорпионах, населяющих его душу, сколько бы ни присваивал себе пороков, легко понять, что самый большой его недостаток — слишком богатое воображение, а недостаток этот очень распространен среди эрудитов, проведших молодость в уединении». Ничто не могло так обидеть Бодлера, как обвинение в том, будто в области сладострастия он — всего лишь новичок с непомерными претензиями. Он изо всех сил старался, чтобы читатель поверил в подлинность его сатанизма. Ему гораздо легче было перенести проклятия даже некоего Жан-Жака Вейсса, упрекавшего его («Ревю контанпорен» от 15 января 1858 года), в том, что он оскверняет «грацию, красоту, любовь, молодость, свежесть, весну». «А ведь у г-на Бодлера есть читатели, — возмущался Жан-Жак Вейсс. — И им восхищаются! Его превозносят! И приходится говорить о нем, словно это какое-то событие».
Бодлер хотя и хмурил брови, но на самом деле ликовал, читая такие критические отзывы, которые мог бы подписать любой Опик или Эмон. Точно так же он для виду ворчал, но втайне радовался первым карикатурам на него, появившимся в журналах. На одной из них он изображен нюхающим букет ядовитых цветов («Монд иллюстре»), на другой отец семейства возмущался, стоя перед очаровательной девчушкой в юбке с кринолином: «Кто дал моей дочке „Цветы зла“ этого ужасного Бодлера?» («Журналь амюзан»), на третьей можно было видеть мужчину, в изнеможении упавшего на постель после чтения «Цветов зла» со стоном: «Ах, это чересчур, дайте воздуха!»
Привлекала и вместе с тем шокировала редких читателей сборника конечно же прежде всего дерзость стихотворений.
Все они — шла ли речь об омерзительно-тошнотворной «Падали» или о гармоничном и светлом «Приглашении к путешествию», о таинственных «Кошках» или о грустно-сочувственном «Вине тряпичников» — были ключами к душе автора. Вся книга, от первой до последней строки, является исповедью странного человека, находящегося в постоянных метаниях между светом и мраком. Меньше всего она похожа на изящное литературное упражнение, задуманное, чтобы понравиться публике. Это взволнованная автобиография больного человека, мечтающего о прекрасном и находящего удовольствие в уродливом, желающего добра и отступающего перед злом, себя ненавидящего и одновременно обожающего, всецело занятого самим собой и отказывающегося слиться с остальным миром. Это грубое самообнажение отпугивает робких, словно их заставляют присутствовать при хирургической операции. Сколько крови, сколько гноя, но над этим, в вышине — сколько небесного света! Куда же Бодлер зовет? Кто его союзники — сатана или Господь Бог?
Вторая удивительная черта — исключительная строгость этих стихов. Порвав с любезными романтической традиции порывами красноречия, Бодлер добился максимальной лаконичности в выражении своей мысли. Формулировки его кратки, стих чеканен. Если до него царило многословное вдохновение, то он не дает себе увлекаться. Стилистической избыточности он предпочитает сжатость. Интенсивность его образов объясняется их отчетливостью и согласованностью. У него ничто не бывает случайным, каждый слог стоит на своем месте. Он не гладит — он бьет в точку.
Третье новшество: употребление на лирическом взлете какого-нибудь простого слова, введение какого-нибудь совсем прозаического, почти тривиального образа. Например, в четвертом стихотворении под заглавием «Сплин»: «И небо низкое, тяжелое давит словно крышка»; в «Искуплении»: «На смятую бумагу похожим стало сердце вдруг»; в «Балконе»: «Ночь мрак сгущает будто переборка»; в стихотворении «Веселый мертвец»: «Чтоб в почву жирную и полную улиток упасть»; последняя строка в «Романтическом закате»: «И под ногой — то жаба, то слизняк». Такого рода резкие переходы от заклинания к реальности подчеркивают аномалию целого. Повседневная речь, врываясь в торжественную песнь стихотворения, придает ему удивительную современность. Странная мелодия, в которой фальшивые ноты обретают кристальную звучность. Для Бодлера не существует ни благородных выражений, ни запретных тем. Его резкое, язвительное искусство одинаково убедительно и в мрачных картинах, и в описаниях разных сатанинских, или мистических, или экзотических сцен, и в эротических эпизодах или ностальгических сюжетах. За этими самыми разными видениями, возникающими в его мозгу, всегда угадывается глубокое сочувствие несчастной участи человека, равно как и постоянный бунт против общества, называющего себя христианским. Единственный способ уйти от пошлости мира — это укрыться в мечте, с помощью, если надо, наркотиков и алкоголя. Все прекрасно, кроме обыденности. Бодлер, находящийся во власти этой навязчивой идеи, уподобляется больному анорексией человеку, у которого один лишь вид пищи уже вызывает тошноту. Человек с оголенными нервами, он страдает от всего, что напоминает ему о его печальной участи одиночки, затерявшегося среди людей. Он не прощает Бога, сотворившего мир, полный несправедливости и абсурда. Но именно потому, что он противостоит Творцу, он признает Его власть. Полагая, что отрицает Его во имя дьявола, он взывает к Нему вне рамок всякой церкви. Его поношения являются, по сути, молитвами, вывернутыми наизнанку. Строки, пущенные им, как стрелы, в небо, никогда не возвращаются вниз.
Бодлер вне всякого сомнения представляет собой тип человека, не приспособленного к жизни в обществе. Будь он богачом, живи он в замке с сонмом слуг, будь он окружен самыми красивыми женщинами, он все равно жаловался бы на жизнь. Для счастья ему не хватало того, что никто бы и не мог ему дать. Он страдал врожденным, органическим пороком: отсутствием тяги к земным благам, постоянными сомнениями в смысле жизни, ностальгией по вчерашнему дню и отвращением ко дню завтрашнему. И всю эту сумятицу он выразил в книге, поражающей четкостью алмазной огранки. Даже структура сборника отличается безукоризненной точностью. Порядок, в котором выстроены стихи, является результатом тончайшего расчета. Бодлер считал, что в составлении оглавления существует своя логика, помогающая заворожить читателя. И действительно, с того самого момента, как открываешь «Цветы зла», испытываешь нечто подобное волнам магнитного поля. Чем дальше читаешь книгу, тем глубже становится впечатление разрыва между нашим повседневным существованием и мрачным чувственным круговоротом, в который вовлекает нас автор.
Удивительное дело: этот поэт, такой искренний в стихах, в жизни просто наслаждается злыми выходками и трюкачеством. Стоило ему выйти за порог дома, как главной его заботой становится ошеломить окружающих, а то и устроить небольшой скандальчик. Какой-то чиновник скромно упрекнул его в том, что сюжеты его стихотворений редко бывают приятными, на что он ответил: «Месье, это специально — чтобы удивлять глупцов». Или же в кругу друзей он холодно спрашивал: «А вы ели мозги младенца? Это напоминает мякоть недозрелого ореха и очень вкусно!» Домовладельцу, упрекнувшему его за шум по ночам, он ответил: «Не знаю, что вы имеете в виду. В гостиной я колю дрова, в спальне таскаю за волосы любовницу, но это же происходит во всех квартирах!» В присутствии Нестора Рокплана, директора Оперы, он как-то раз, вынув из кармана книгу, заявил, что ее переплет «сделан из человеческой кожи».
Все это — дешевые шутки, рассчитанные на то, чтобы ужаснуть глупцов, но так или иначе Бодлер всегда любил пооригинальничать. Он постоянно стремился вызвать сенсацию. В детстве он мечтал стать актером. Это ему удалось в зрелом возрасте. Некоторые утверждали, что он гримируется и красит волосы. Притворство стало для него второй натурой. Единственный человек, перед которым он не мог играть роль, была его мать. Вот он и не торопился ехать к ней: ему так нравилось эпатировать и дразнить публику, что он предпочитал прозябать в Париже, находясь в долгу, как в шелку, терпеть неприятности и сплетни, хотя и мог бы променять все это на спокойную жизнь в комфортабельном и тихом доме в Онфлёре. «Повторяю, я твердо решил перебраться в Онфлёр, — писал он матери 11 января 1858 года, — надеюсь, что мне это удастся в начале февраля […] Я сказал об этом проекте кое-кому из друзей […] Все мне говорят: гениальная идея. Ведь в самом деле, таким способом я избавлюсь от бесполезных хлопот и метаний, а получу, наконец, столь любимое мною одиночество. К тому же следует надеяться, что если в Париже, среди бесчисленных и самых разных неприятностей, я зарабатываю 5–6 тысяч франков в условиях, когда уделяю очень мало времени работе, то при спокойной жизни я смогу зарабатывать гораздо больше». Но 19 февраля он все еще оставался в Париже и приносил извинения Каролине, с нетерпением его ожидавшей: «Откровенно говоря, я давно хочу вырваться из этого проклятого города, где я так страдал и где я потерял столько драгоценного времени. Кто знает, может, мой дух помолодеет там, среди покоя и счастья? В голове моей роятся десятка два романов и пара драм. Я не хочу нормальной, обычной репутации, хочу потрясать и удивлять умы, как Байрон, Бальзак или Шатобриан. Успею ли, Боже? […] Я не хочу, чтобы, читая это, ты думала, что мною движет только эгоизм. Большая часть моих забот сводится к следующему: Моя мама не знает меня, она почти не общаюсь со мной; нам не удалось даже пожить вместе. А ведь надо найти время и пожить бок о бок хоть несколько счастливых лет».