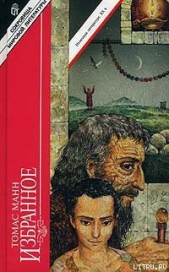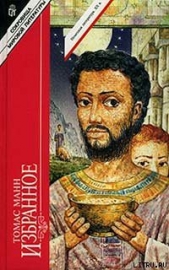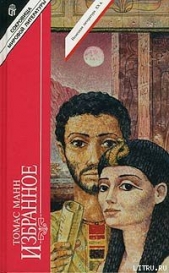Путь на Волшебную гору
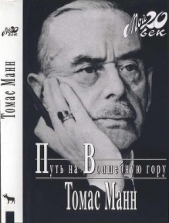
Путь на Волшебную гору читать книгу онлайн
Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1875–1955) — автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», тетралогии «Иосиф и его братья». В том мемуарной и публицистической прозы Томаса Манна включены его воспоминания — «Детские игры», «Очерк моей жизни», отрывки из книги «Рассуждения аполитичного», статьи, посвященные творчеству великих немецких и русских писателей. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление об эволюции творчества и мировоззрения этого ярчайшего представителя немецкой культуры двадцатого столетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Склонность Гёте к отрицанию и его недоверчивая нейтральность снова резко дали себя знать», — пишет канцлер фон Мюллер. И многие современники, встречавшиеся с поэтом, свидетельствуют о том стихийном, темном, злобном и прямо‑таки дьявольски смущающем, что исходило из его существа. Сотни раз отмечались его горечь и насмешливость, его софистический дух противоречия. «Из одного глаза глядит у него ангел, — пишет один его дорожный знакомый, — из другого — дьявол, и в каждом его слове — глубокая ирония над всеми делами человеческими». Но самое страшное, что о нем было сказано, это: «В нем есть терпимость, но нет душевной мягкости».
К изумительно приятному впечатлению, которое он, как говорят, производил, всегда примешивается что‑то удручающе — жуткое, и несомненно, что именно этой стороной его натуры можно объяснить то недоумение и печаль, которые он вызывал в своем друге Шиллере. «Достойно сожаления, — пишет Шиллер в 1803 году, — что Гёте так обленился и ни на чем не может сосредоточиться в полную силу… Вот уже три месяца как, пребывая в добром здравии, он не выходил не только из дому, но даже из своей комнаты… Если б Гёте сохранил еще веру в возможность благого и был последователен в своих действиях, он мог бы еще многое сделать здесь, в Веймаре, многое создать и преодолеть этот злополучный застой». Вера в возможность благого! «Не следует думать, — писал кто‑то о нем, — что его взгляды всегда отличались твердостью и определенностью, отнюдь нет. Но как раз это и обеспечивало ему свободу познания различных вещей, так что за ним каждый раз оставалось право вернуться к ним и оценить их по — новому». Однако эта характеристика кажется слабой и эвфемистичной по сравнению с истиной, которая явствует из высказываний его близких и друзей и вполне соответствует тому тревожному впечатлению, которое производила его Протеева натура, скорее ироническая и эксцентричная, чем уравновешенно — спокойная, скорее отрицающая, чем утверждающая, скорее юмористическая, чем веселая, способная принимать любой облик, играть ими всеми, высказывать и отстаивать самые противоположные взгляды. «В каждой его фразе, — пишет Шарлотта фон Шиллер, — заключалось противоречие, так что можно было толковать все, как угодно, но при этом вы с болью чувствовали, что за всеми словами учителя стоит одна мысль — “Я сделал ставку на ничто!”» Ставку на ничто! Ведь это нигилизм, и тогда во что же он, строго говоря, верил? В человечество он не верил, я хочу сказать, в возможность его революционного очищения и освобождения. «Его вечный удел — шатания и колебания, одна его часть будет страдать, другая благоденствовать; эгоизм и зависть, подобно злым демонам, никогда не перестанут вести свою игру, и борьбе партий не будет конца». Но верил ли он хотя бы в искусство, было ли оно для него, как выражаются добрые люди, священным? Некоторые его высказывания свидетельствуют о противном. Не могу забыть, как глубоко потряс меня его ответ одному молодому человеку, восторженно заявившему, что он хочет жить для искусства, трудиться и страдать. Гёте холодно возразил: «О страдании в искусстве не может быть и речи». Для натур экстатических, для одержимых поэзией у него всегда наготове ушат холодной воды. Однажды, к великому изумлению собеседника, он заметил, что стихотворение само по себе ничего не стоит. «Каждое стихотворение — поцелуй, который мы дарим миру. Но от одних поцелуев дети не рождаются». После чего умолк и не пожелал продолжать разговор.
Мне невольно хочется связать с этими чертами его личности еще одну, неоднократно подмеченную и вызывавшую недоумение у всех, кто ее наблюдал. Это — его непреодолимая, всю жизнь ему сопутствовавшая неловкость и застенчивость в отношениях с людьми, скрывавшаяся за церемонной чопорностью, которая не могла замаскировать ее истинную сущность; надо полагать, она была особенно заметна в человеке придворном и светском. «Хотя ему, — писал один англичанин, — вероятно, больше чем кому‑либо из европейских поэтов, приходилось вращаться в избранном обществе, создается впечатление, что он всякий раз несколько смущается, когда ему представляются впервые. Я готов был приписать это его недомоганию, — он был нездоров, когда я пришел к нему, — если бы один из ближайших его друзей не сказал мне, что Гёте никогда не удавалось вполне побороть в себе это чувство». Как‑то раз, — речь шла о его сановно — гордой манере держаться с любопытными посетителями и почитателями, — Оттилия фон Гёте со всей уверенностью заявила, что, сколь невероятно это звучит по отношению к человеку, столь видному и столь изысканно — обходительному, тем не менее остается фактом, что на самом деле Гёте держит себя так от смущения, которое он старается скрыть под кажущимся высокомерием. В пояснение она добавила, что в действительности Гёте скромен и внутренне смиренен. Мы в этом не сомневаемся. Чем выше дух, чем он шире, тем более чуждо ему самомнение, всегда являющееся плодом ограниченности. Но ведь ему же принадлежат и слова: «Только негодники скромны», — и в нем было достаточно развито чувство собственного величия, собственного несравненного превосходства над всеми теми, с кем ему приходилось сталкиваться. Причины подобной застенчивости коренятся глубже, она — признак того иронического нигилизма, о котором мы уже говорили, той глубочайшей стихийно — демонической творческой беспринципности и недостатка веры, идейного подъема, одушевлявших больного Шиллера, который, безусловно, не знал этой неустойчивости характера, именуемой смущением.
Несомненно что вся та ненависть, которую ему пришлось испытать, все упреки и жалобы, направленные против его эгоизма, его высокомерия, его аморальности и «колоссальной силы торможения», были вызваны этой холодностью к идейно — политическому подъему как в его националистически — воинствующей, так и революционно — человеческой разновидностях, то есть тем, что он упорно отвергал основное направление своего века — демократическую и национальную идею. За этой досадой, за этими жалобами забывали, что равнодушие Гёте к политическому аспекту человечества отнюдь не означало недостатка в любви — как любви к людям, ибо он сказал, что один лишь вид человеческого лица может излечить его от меланхолии, и ему принадлежат высокогуманные слова: «Истинное познание человечества — в познании человека», — так и, что одно и то же, любви к будущему. Ибо человек, любовь, будущее — всеедины, это единый комплекс симпатии и жизнелюбия, которые, при всей аполитичности Гёте, составляли его глубочайшую сущность и определяли его понимание «жизнедостойного». Я как сейчас помню испытанное мною удивительное впечатление парадоксальности и властной смелости, когда я, молодой человек, получивший от Шопенгауэра великое разрешение на пессимизм, впервые сознательно задержался в «Эпилоге к колоколу» на слове «жизнедостойный». «Жизнедостойного настигнет смерть» — словосочетание, насколько мне известно, до Гёте не существовавшее и созданное им самим. Видеть в жизни высший критерий, а в том, чтобы быть достойным ее, — высшее благородство, которое, если все бы шло естественным путем, защитит тебя от уничтожения: это шло вразрез с моим юношеским пониманием благородного, сводившимся, в сущности, к возвышенной неприспособленности и непризванности к земной жизни; ведь и в самом деле, это удивительное словосочетание исполнено какого‑то задорного жизненного позитивизма, антипессимистического жизнеутверждения, которое в моих глазах представляет собою самую высокую и самую общую форму гражданства — жизненное гражданство , когда человек, широко расставив ноги, прочно стоит в жизни; это жизненный аристократизм любимчиков и баловней природы, которые, будучи не вовсе далеки от жестокости, пренебрежительно смотрят на «горемык, алчущих недостижимого». Я сказал, что этот вид аристократизма недалек от жестокости, потому что действительно есть нечто жестокое в упоре на витализм, сказывающемся в словах восьмидесятилетнего Гёте о негодниках, которые слишком рано убираются из жизни, — он имел в виду беднягу Земмеринга, только что умершего в возрасте семидесяти пяти лет. «Вот кого я хвалю, — воскликнул он, — так это моего друга Бентама. Он в высшей степени радикальный глупец, но отлично держится, хотя и старше меня на несколько недель!» Тут можно упомянуть и забавный анекдот о том, как Гёте потешался над этим самым Бентамом, английским экономистом — утилитаристом, над его радикализмом, а ему возразили: родившись в Англии, его превосходительство вряд ли избегло бы радикализма и роли борца против злоупотреблений. «За кого вы меня считаете? — отвечает Гёте. — Чтобы я стал вынюхивать злоупотребления, да еще раскрывать их и предавать огласке, я, который в Англии сам жил бы злоупотреблениями? Ведь если б я родился в Англии, я был бы богатым герцогом или, скорее, епископом с годовым доходом в тридцать тысяч фунтов стерлингов». Отлично, ну а если б он вытянул не главный выигрыш, а пустой билет? Ведь пустышек куда больше! На что Гёте возражает: «Не всякий, милейший, создан для главного выигрыша. Неужели вы думаете, что я имел бы глупость вытащить пустой билет!» Вот она, уверенность в благосклонности жизни, жизненное гражданство, метафизически — аристократическое сознание, что всегда и везде он был бы в числе привилегированных, всегда и везде был бы в числе высокорожденных. Не удивительно ли, что этот баловень созидательных сил категорически отвергал и отметал все утверждения о том, что он прожил счастливую жизнь, — утверждения как завистливые, так и восторженные. Успокойтесь, говорил он, я не был счастлив; если сложить вместе все радостные часы моей жизни, то их не наберется и на четыре недели. «То было вечное перекатывание камня, и его надо было поднимать вновь и вновь». И за этим следует потрясающая, поистине всеобъясняющая фраза: «Мне, как творцу, предъявлялось слишком уж много требований как извне, так и изнутри». Итак, несчастлив, и все благодаря огромности задач, которые ставил перед ним его гений и осуществлению которых постоянно мешал назойливый свет. Каково же отношение этого гордого своей живучестью человека к здоровью и болезни? Гений, как известно, не может быть нормальным в обывательском, сугубо бюргерском смысле этого слова, так же как и благословенное природой не может быть в глазах филистера естественным, здоровым, законным. В сфере конституциональной тут всегда много нежного, легко раздражимого, склонного к кризису и болезни, в сфере психической — много вызывающего у посредственности недоумение, жутко волнующего, близкого к психопатологическому. Сам Гёте прекрасно это знает и наставительно разъясняет это Эккерману. «То необычайное, — говорит он, — что создают подобные люди (читай: люди, подобные мне), предполагает весьма нежную организацию, ибо они должны быть способны на редкие переживания и различать небесные голоса. Подобная организация легко оказывается расстроенной и уязвленной в конфликте с миром и его элементами, и тот, в ком с величайшей чувствительностью не сочетается крайняя выносливость, бывает склонен к постоянной болезненности». И в самом деле, это сочетание чувствительности и выносливости решающим образом определяет особую жизнеспособность гения. «Страданью, смерти был он обречен», — сказал Гёте о своем друге Шиллере, но разве сам он, стоявший с жизнью на гораздо более дружеской ноге, не был таким же? Кровохарканье, которым он страдал в юные годы, говорит о предрасположении к туберкулезу, и тысячи признаков величайшей возбудимости, утомляемости, сугубой раздражительности, а также несколько случаев тяжелых заболеваний, наблюдавшихся у него вплоть до глубокой старости, указывают на неустойчивость этого организма, постоянно находящегося под угрозой, и свидетельствуют о том, какая цепкая духовная воля к жизни, я бы сказал, какой жизненный уклад требовался для того, чтобы удерживать эту натуру при исполнении жизненного долга и заставить ее прожить полную, канонически долголетнюю человеческую жизнь, довести ее до восьмидесяти двух лет. То не было детской игрой ни для тела, ни для души.