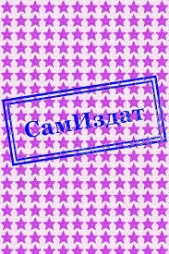Начало века. Книга 2

Начало века. Книга 2 читать книгу онлайн
«Начало века» — вторая книга мемуарной трилогии Андрея Белого. Воспоминания охватывают период с 1901 по 1905 г. В них нарисованы портреты видных литераторов и художников, рассказано о зарождении символизма, воссоздана общественная и литературная атмосфера России начала века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С 1894 года до 1910 на него изливались потоки хулы, после ставшие сдавленным гулом хулы молодых неудачников: нашего стана; в 900–901 годах он ходил по Москве с записной своей книжечкой и с карандашиком, организуя молодых поэтов в литературную партию, сухо налаживая аппараты журналов, уча и журя, подстрекая, балуя и весь осыпаясь, как дерево листьями, ворохом странных цитат из поэтов, непризнанных, — Франции, Бельгии, Англии, Чехии, Греции, Латвии, Польши, Германии, — сковывая свой таран стенобитный с воловьим упорством 73.
Увенчанный лаврами «мэтр»; и — слуга: с подтиральною тряпкой в руке; даже чистильщик авгиевых литературных конюшен, заваленных отбросами, скопляемыми лет тридцать пять Скабичевским, Ивановым, Иван Иванычем, Стороженкой и Веселовским; Брюсов ухал на ужасы пошлятины ужасом дикости, изгоняя бред бредами; желтая кофта В. В. Маяковского, «татуировка» «бубновых валетов» [Группа художников, в свое время новаторов], кривляние Мариенгофа в эпоху, когда «фиги» стали предметом продажи почти в каждом колониальном магазине, — только повтор былой удали Брюсова при выполнении затеянной им партизанской войны, уничтожавшей армию трутней: отрядиком маленьким; до Маяковского соединил Маяковского, Хлебникова, Бурлюка с деловыми расчетами и с эрудицией опытного архивариуса, щедро сеющего крупной солью цитат, заставляя принять бронированный «бред», подносимый с практичностью лавочника.
Он умел объегоривать; и он — любил объегоривать дураков.
Скромно, в застегнутой наглухо черной одежде являлся к Герье молодой человек, удивляющий сметкой и знанием.
— «С кем честь имею я?..»
— «Брюсов».
— «Гм…»
Разговор продолжался до мига, когда изрекалось:
— «А вот Михайловский сказал».
Молодой человек, вдруг потупясь и дико сверкнувши из черных ресниц, точно цапнутый лапой невидимой, напоминая пантеру, готовую прыгнуть, кивком головы и сложением рук на груди, замирал; красный рот разрывался пещерным отверстием:
— «Он — идиот!»
Можно было подумать: в почтенное место являлся сюртук в… черной маске: историка, пушкиноведа или латиниста, чтоб, поговорив о Тибулле, Проперции, маску сорвать: стать оскаленным «чудищем», зубы вонзающим — в горло.
Придет и чарует («Ах, — умница»); просят стихи почитать; поднимается, складывая на груди свои руки, с глазами египетской кошки 74, с улыбкою почти нежной, дергаясь бледным лицом, чтобы выорнуть нежно и грустно, как тешится лаской с козою он и как валяется труп прокаженного 75.
Точно из диких гробов бесноватый врывался в гостиную Петра Бартенева, живой традиции, спорившего с князем Вяземским.
Гнать?
Хозяин, почтенный старик, Петр Бартенев, — не гнал 76.
Уж и мстили, вонзаясь в поэзию Брюсова пилами, сверлами и бормашинами: в ряде годин.
Очень многое в нем — желчь и яд от надсады.
Он, точно наказанный Атлас 77, стоял с полушарием своей вселенной в безводной пустыне девяностых годов.
Было что-то больное в травлении собственных ран, принуждавшее не алкоголика, не гашишиста, а домохозяина, несшего долг обходить квартирантов своих, чтоб составить понятие о состоянии водопроводного крана и ватерклозета [Со слов поэта Муни, обитавшего в доме Брюсовых 78], и после к Бартеневу, в «Русский архив», где служил он, с портфелем тащиться с Цветного бульвара к Воздвиженке, рыться в пылях с добросовестностью, удивлявшей Бартенева; что заставляло вполне целомудренного в разговорах житейских служаку выкрикивать профессорам с целомудренным видом: он, Брюсов, Валерий, — не кто-нибудь, универсант, семьянин, — некрофил и садист?
В стихах, посвященных мне, он угрожает мне: если и я приму «сребреники», — то кинжал ожидает меня; и, когда показалось ему, что на «светлых» путях своих, чуждых ему, но мне свойственных, я оборвался, — он в строгой серьезности казнь измышлял мне, в чем сам он сознался:
[Стихотворение «Бальдеру Локи», одно время мне посвященное 81] 82.
И мне все объяснило письмо, отвечающее на мой лозунг: «Не только литература». Оно — корень Брюсова; я привожу его как неизменный эпиграф к трагедии, бывшей меж нами 83.
Село Антоновка, 1904.
Дорогой Борис Николаевич! (И это слово — дорогой — примите не в «эпистолярном» значении, а в настоящем, первичном: как знак, что Вы, что всякое приближение к Вам мне желанно, дорого. И как жаль, что мы утратили возможность всегда, во всех случаях, все слова принимать в их настоящем смысле!) Дорогой Борис Николаевич! Я рад, что Вы написали свое письмо мне; даже больше чем рад, немного счастлив. Когда я читал его, я вдруг, как в молнии, увидал — Вас, того Вас… которого я опять иногда вижу в Ваших глазах, но далеко не всегда в общежитии, в Ваших разговорах, статьях, даже стихах. Конечно, Вы были неправы, обращаясь в своем письме ко мне с вопросами. Почему не я к Вам? — и, просьба, на эти вопросы скорее Вам отвечать мне. И только моя горькая привычка молчать, пришедшая ко мне после десяти лет жизни, не дала мне бросить все те безнадежные «зачем» Вам. Думаю, «мы» все равно чувствуем их. И Ваше письмо — были все те же, наши общие, одинокие мысли, которые, когда они вновь приходят, даже нет необходимости вновь продумывать, так как все их пути уже истоптаны раздумьем.
И все-таки хотите ответ? Вернее, не ответ, а грустное признание, мое признание, которое кажется мне тоже нашим общим. Вот оно. Нет в нас достаточно воли для подвига. То, чего все мы жаждем, есть подвиг, и никто из нас на него не отваживается. Отсюда все. Наш идеал — подвижничество, но мы робко отступаем перед ним и сами сознаем свою измену, и это сознание в тысяче разных форм мстит нам. Измена… завету: «Кто возлюбит мать и отца больше меня!..» Мы, вместе с Бальмонтом, ставим эпиграфом над своими произведениями слова старца Зосимы: «Ищи восторга и исступления», а ищем ли? то есть ищем ли всегда, смело, исповедуя открыто свою веру, не боясь мученичества (о, не газетных рецензий, а истинного мученичества каждодневного осуждения). Мы придумываем всякие оправдания своей неправедности. Я ссылаюсь на то, что мне надо хранить «Весы» и «Скорпион». Вы просите времени в четыре года, чтобы хорошенько подумать.
Мережковский лицемерно создал для самого себя целую теорию о необходимости оставаться «на своей должности». И все так. Двое разве смелее: А. Добролюбов и Бальмонт. И я думаю, что у Добролюбова нет этих криков «зачем?» — хотя он и облегчил свою задачу, назначив себе строгие уставы, надев тяжелые вериги, которые почти не дают ему свободы двигаться. И Бальмонт, при всей мелочности его «дерзновений», при всем безобразии его «свободы», при постоянной лжи самому себе, которая уже стала для его души истиной, — все же порывается к каким-то приближениям, если не по прямой дороге, то хотя бы окольным путем.
А мы, пришедшие для подвига… покорно остаемся в четырех условиях «светской» жизни, покорно надеваем сюртуки и покорно повторяем слова, утратившие и первичный, и даже свой вторичный смысл. Мы привычно лжем себе и другим. Мы, у которых намеренно «сюртук застегнут», мы, которые научились молчать о том, о чем единственно подобает говорить, — вдруг не понимаем, что все окружающее должно, обязано оскорблять нас всечасно, ежеминутно. Мы самовольно выбрали жизнь в том мире, где всякий пустяк причиняет боль. Нам было два пути: к распятию и под маленькие хлысты; мы предпочли второй. И ведь каждый еще миг есть возможность изменить выбор. Но мы не изменяем. Да, я знаю, наступит иная жизнь для людей; не та, о которой наивно мечтал Ваш Чехов («через 200–300 лет»), — жизнь, когда все будет «восторгом и исступлением»… Нам не вместить сейчас всей этой полноты. Но мы можем провидеть ее, можем принять ее в себя, насколько в силах, — и не хотим… Мы не смеем. Справедливо, чтобы мы несли и казнь.
Мне жаль, что всего этого я не могу сказать Вам в тот самый час, когда писалось Ваше письмо. Мне жаль, что пройдут дни — много дней — между тем, когда Вы мне писали и когда Вы будете читать этот ответ или эту исповедь. Я обращаю ее к Вам так же полно, как — верю — было обращено ко мне Ваше письмо. И так же уверенно подписываю я свои страницы. —
Вас любящий
Валерий Брюсов