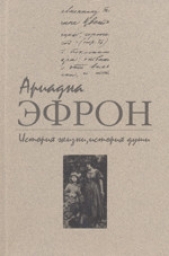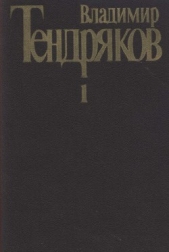История жизни, история души. Том 1
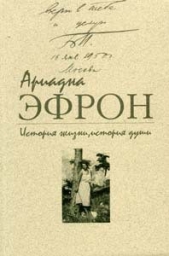
История жизни, история души. Том 1 читать книгу онлайн
Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Во-первых — теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой «кубатуры», необходимого пространства и простора, воздуха! И это не случайность, это не само написалось так (как иногда «оно» пишется само!). Это — умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты, именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени, а во-вторых — по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте. Ты с ними обращаешься, как с правонарушителями, нагромождая их на двойные нары, как тот Людовик с тем епископом.
Почему так? Желание сказать главное о главном («Живое о живом», как называется одна из маминых вещей), чтобы ничего лишнего, чтобы о сложном — просто? Но вот эта-то «простота» и усложняет всё настолько, что приходится проделывать весь твой путь, a rebours 52, восстанавливая отброшенное тобой.
Получается концентрат - судеб, эпох, страстей, вмешиваясь в которые читатель — т. е. в данном случае говорю только от своего имени! вынужден добавлять ту влагу, которую ты отжал, усложнять то, что «ты упростил». Получается, что все эти люди — и Лара, и Юрий, и Тоня, и Павел, все, все они живут на другой планете, где время подвластно иным законам, и наши 365 дней равны их одному. Поэтому у них совсем нет времени на пустые разговоры, нет беззаботных, простых дней, того, что французы называют detente 53, они не говорят глупостей и не шутят — как у нас на земле. И ни одного смешного происшествия, без которых не бывает юности. Поэтому нет впечатления постепенности их роста и превращений, их подготовленности к этим превращениям.
Патуле, «весёлому и общительному», ты ни разу, с тех пор, что он передразнивал кого-то на манифестации, не дал пошутить. А ведь именно эта его жизнерадостность, витаминность, способность рассмешить и рассеять должны были привлечь тяжело раненную, надорванную Лару — больше, чем его влюблённая перед ней растерянность. А в Юрятине Патуля просто превращается в Юру, чуть ли не с того, ни с сего — ему не хватает только стихов. «Он был умён, очень храбр, молчалив и насмешлив», — говоришь ты о нём на стр. 135, и приходится верить тебе на слово. Если бы ты не сделал этой оговорки, о Патулиной насмешливости никто и не догадался бы.
А ведь эти качества — насмешливость, наблюдательность, юмор — необычайно влияют на взаимоотношения людей, создают друзей и врагов, утешают и злят, именно этого нельзя было обходить в книге, выкидывать из неё.
О Ларе: в неё не то что веришь, как в писательскую удачу, не то что она правдоподобна, она есть, вот сейчас есть, вот сейчас живёт. И поэтому когда я пишу тебе о ней, то не как о героине, а как о живом человеке, чья судьба зависит только от тебя одного. Дай же ей все 365 дней в году, а не только дни больших событий и переживаний! Дай ей самой дойти до выстрела в Комаровского, а не заменяй её несколькими страничками нарочито сухой скороговорки: «...жизнь опротивела Ларе». «...Она стала сходить с ума». «...Её тянуло бросить всё знакомое». «...с намерением стрелять в В.И., если он ей откажет, превратно поймёт, или как-нб. унизит». Ведь не столько, пожалуй, важно действие, сколько то, что к нему подготовляет, делает его неизбежным. В данном же случае неизбежности выстрела нет, и не потому, что без него можно было бы обойтись (- нельзя, Лара не может иначе!), а оттого, что в самом ответственном, в нарастании события ты заменил Лару, рассказал за неё своими (да и вовсе на этот раз не своими) словами, отчитался несколькими фразами за несколько мучительнейших, ответственнейших лет, за весь инкубационный период, пока она вынашивала в себе этот не только не грянувший, но ещё не дошедший до её сознания и уже неизбежный выстрел.
Теперь — вот этот выстрел — освободил ли он Лару от Комаровского, убила ли она им Комаровского в себе?
Если да, то Комаровский не должен, не может появиться на Лариной свадьбе. Это — худшее, невозможнейшее из его, законом не наказуемых, - преступлений, и по отношению к Ларе, и по отношению к Паше, и по отношению к хору гостей, это - дикая бестактность. Да и по отношению к нему самому. Этот тип подлеца-джентльмена может позволить себе грубость — но не бестактность. И нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах он не может по собственному желанию и почину выступить в роли побеждённого, чуть ли не в комической роли. Его «молодые друзья» могут быть для него всем чем угодно, только не друзьями. Паша простить не мог, Лара — Лара могла вычеркнуть из жизни, но - но, если бы он появился ещё раз, Бог знает, какой зверёк зашевелился бы в её сердце, не мог бы не зашевелиться. И она всё что угодно, но только не «громко и невнимательно отозвалась», «...совершенно забыв, с кем и о чём она говорит...».
Потом, знаешь что, мне бы ужасно хотелось узнать, как Ларисауви-дела Комаровского тогда, там, на ёлке. «...Останавливалась и мялась на пороге гостиной, в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит её...» Это ведь всё уже после того, как она увидела, узнала его, такого знакомого и чужого в толпе гостей. После многих лет. И уже после этого взгляда и узнаванья его она останавливалась и мялась на пороге. Это может быть и мелочь, но она-то мне очень нужна!
Скажи, как могло получиться, что эта, так глубоко и сильно чувствующая, женщина могла не почувствовать Юрятинского Павла? Сам факт его решения мог оказаться для неё неожиданностью, но не коренная в нём перемена, вызвавшая это решение. Ведь не было же её отношение к нему настолько поверхностным, чтобы она могла настолько всё пропустить, прозевать? И если он так всё чувствовал, то как же она, женщина, да ещё такая женщина, да ещё виновница всего, не почувствовала, что он чувствует? Опять эта теснота, эта ино-планетность, не дающая развиться инкубационному периоду, приводящая нас непосредственно к следующему поступку, следующей вспышке, следующему перелому жизней и судеб.
Всё растущая разница между Павлом и Ларой, определяющаяся, в частности, в разности их отношений к окружающим и окружающему, даже твоё замечание о том, что «даже Лара показалась ему недостаточно знающей» (кстати, опять же — какой недостаток интуиции с её стороны! Женщины вообще-то всегда «недостаточно знают» то, что интересует их мужей, но никогда не показывают вида!), всё это должно было вызвать чуть ли не раздражение Павла, а на самом деле он любит её ещё больше прежнего, и уходит от неё любя. Для того чтобы и эта разница, и эта любовь, и всё это смешение противоречий в их отношениях сделались понятными, неизбежными, опять-таки нужно растворить этот период в большем пространстве - на него не хватает многих и многих страниц книги.
Как относится Павел к дочке? Играет ли он с ней? Смотрит ли на неё спящую? Была ли в доме хоть одна детская болезнь, хоть одна бессонная ночь, хоть одна тревога из-за ребёнка? Если нет, то к чему вообще ребёнок? Только для того, чтобы он (она!) вдруг выросла (или умерла) во второй части книги?
И вот Павел уехал на фронт. И Лара, теряя его, не начинает любить его больше, чем раньше, не оценивает его по-иному, как все мы (и она тоже должна бы!), когда теряем кого-то близкого в середине отношений, не отмершего и не умершего. В таких случаях расстояние и недосягаемость страшно сближают людей, а Лара, когда письма от Антипова прекращаются, «вначале не беспокоится». Да возможно ли не беспокоиться вначале? Иной раз бывает, что переизбыток тревог за человека настолько отравляет, перенасыщает душу, что в один прекрасный день возьмёшь да и перестанешь тревожиться, совсем, начисто, раз и навсегда. Но вначале, вначале она, бывшая, как простая баба, хватавшая мужа за руки и валявшаяся у него в ногах, должна была сходить с ума от отсутствия писем, как-то успокаивать себя днём «развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах», а ночи — не спать. И чувство её к ребёнку должно было сделаться более смятенным, а не то что «пристроить дочь у Липочки», и в дальнейшем -«бедная сиротка» (кстати, не Лариного обихода эти слова. Так могла бы говорить мадам Гишар, но не её дочь!)