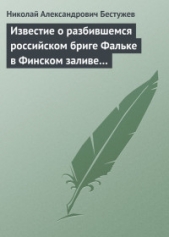Миг бытия

Миг бытия читать книгу онлайн
Воспоминания и эссе Беллы Ахмадулиной, собранные в одной книге, открывают ещё одну грань дарования известного российского поэта. С «напряжённым женским вниманием к деталям… которое и есть любовь» (И. Бродский) выписаны литературные портреты Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Набокова, Венедикта Ерофеева, Владимира Высоцкого, Майи Плисецкой и многих-многих других — тех, кто составил содержание её жизни…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Памяти Великого Артиста
На 89-м году жизни умер Асаф Михайлович Мессерер. Ещё недавно каждое утро он шёл вниз по Тверской улице из дома на работу — в Большой театр. Это называется: «давать класс». Условный балетный термин следует увеличить, расширить, возвысить, отнести к уроку всей его жизни — бессмертному, потому что у его учеников всегда будут ученики.
Его пребывание в воздухе было таинственно, волшебно. Это видели многие зрители, это видели Шаляпин и Собинов — он совпал с ними на великой сцене, это видели Мейерхольд и Михоэлс — он совпал с ними в трагическом времени.
Да, он прожил большую, полную жизнь, прожил вполне, совершенно. Я написала и прочла эти слова, но не сумела сыскать в них утешения. Больше никаким утром он не пойдёт вниз по Тверской — что-то покачнулось, непоправимо разрушилось, кончилось… Эпоха кончилась. Но балет остался и всё будет парить и блистать, увековечивая кроткий образ, драгоценное имя Асафа Мессерера.
Слово прощания
Вот, в сей час, в сей миг, при нас завершается нерасторжимость Большого театра и Асафа Мессерера. Разумеется, я имею в виду только очевидную нерасторжимость. Я хорошо понимаю, что стены великих театров умеют хранить своих героев бережнее и тщательнее, чем усыпальницы фараонов.
Энергия всех движений Асафа Мессерера, которую он расточил на зрителей, на учеников, всё-таки должна пребывать где-то и в этом воздухе. Я верю в это. И где-то здесь навсегда останется нечто от него — какой-то привет людям, которые придут после нас. И всё-таки обрыв этой нерасторжимости трудно осознать, и звучит это и выглядит несусветно.
Сегодня утром, увидев колонны Большого театра, мне показалось, что я созерцаю их некоторый беспорядок, какую-то близость к обмороку. Поверьте, это не смятение моих глаз, а действительно историческое ощущение того, что значительная часть времени кончилась. То, что Асаф Михайлович Мессерер не будет каждое утро ходить вниз по улице из своего дома к Большому театру, то, что это действительно так и что он больше не войдёт в свой Театр, — вот это в моём сознании разрушает некоторую конструкцию, без которой трудно обходиться. В эту конструкцию входит всё — и великий его дар, и трагическое время, и судьба его учеников.
Но тем не менее что-то отчётливо пошатнулось. Я утешаю себя тем, что я знаю, что всё это происходит при нашей общей боли, общем страдании, потому что в Асафе Мессерере было ещё одно качество. Это в нём теплился, теплился и ласкал других какой-то кроткий, но довольно мощный свет. Во всяком случае я попадала под это излучение. И то, что в рассеянном, в разрозненном мире Асаф Мессерер всегда и сейчас может объединить людей в добром возвышенном чувстве — пусть это будет нам всем утешением. Да, я ищу утешения себе, желаю утешения вам, но в душе что-то поплакивает, попискивает и не принимает слова утешения.
Чудо танца
Как в детстве вдень праздника — проснуться не завсегдатаем быта, а избранником судьбы, приближённым ёлки, когда твои умыванье, одеванье, поеданье завтрака относятся не к тебе, а к придворным хлопотам о её воцаренье. Не тоже ли самое с Театром, возводящим нас в чин ребёнка, ожидающего волшебства? Ты ещё отмываешь лицо от недолгого сна, глотаешь кофейную гущу, борешься с предметами; ненужные рвутся за тобой, нужные норовят остаться — а между тобой и бело-алой, каменно-бархатной громадой шатра уже протянулся пунктир неминуемой связи, оркестранты вразнобой примеряются к вашему единству, и Та, ради которой — всё, уже бледна и ещё раз испытывает соотношение ног и Божьей милости. Одновременно где-нибудь в Салтыковке, при последнем издыхании сирени, рослая нескладная девочка запускает многоугольник локтей и колен в погоню за электричкой и, едва не обогнав её, прыгает в вагон. На ней белое платье в чёрный горох с красным цветком из бумажного сада. Тебе нет до неё никакого дела, но ответвление того пунктира нащупывает её в мирозданье и упирается в красный цветок. Солнце точно в зените, а ты опаздываешь, и затруднённое движение такси, не соразмерное со спешкой нервов, терзает тебя, как продирание тела сквозь кустарник. Твоё явление на солнцепёке меж белых колонн поистине величественно, к тебе взывает множество жаждущих рук, ты наугад снабжаешь их чудом и таким образом на три часа помещаешь в угол глаза чёрный горох на белом фоне. Дня лишнего блаженства спрашиваешь перламутровый бинокль у грациозного антикварного старца в гардеробе, упираешься локтем в бархат, в глубину времени, источающую привет-намёк-упрёк: при этих-то чудесах, при детском золоте Театра — зачем, возможно ли затевать злое дело или грубые помыслы, не проще ли предаться музыке, всегда повествующей о любви?
Пусть просвещённые и досточтимые ценители музыки обдумывают и говорят свои справедливые слова, мне следует знать свой шесток и не рассуждать о музыке, но обратить к ней доверчивый лопоухий слух. Тем более что эта музыка умна, сильна, независима, не склонна любезничать со слушателем, впрямую растолковывая что к чему, и предлагает скорее раздумье, чем бессознательный трепет. Увертюра сдержанно и неболтливо уведомляет нас о значительности предстоящих событий, и торжественно обнажаются декорации — важные, лаконичные, с очень глубоким, угрюмо поблёскивающим объёмом, удобным для безысходной муки и редких ослепительных просветов радости. Спешу поздравить художника В. Левенталя (и заодно похвалиться во всеуслышанье, что некогда мы занимались в одном Доме пионеров) — привет и браво!
Всё начинается при снегопаде, при грустных фонарях, с кружения снега и изящных силуэтов вокзальной публики — надо сказать, что все группы и множества людей — на перроне, на балу и везде по ходу спектакля — сплочены гармонией и играют свою второстепенную роль по правилам первоклассного мастерства.