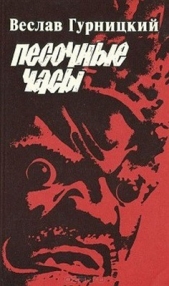Песочные часы

Песочные часы читать книгу онлайн
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».
Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.
Написана легким, изящным слогом. Будет интересна самому широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А с алгеброй все обошлось, я ее пересдала. И не осенью, а через неделю. И хотя отвечала ничуть не лучше, чем на экзамене, Евгеша поставила мне желанную троечку. Правда, когда она выводила мне эту тройку, у нее сделалось выражение лица как однажды у мамы, когда она по ошибке глотнула из бутылки вместо яблочного сока подсолнечное масло. Но об этом я маме не сказала.
Про «это», Сережа Скворцов
Новое в моей жизни — жгучий интерес к «этому». Об «этом» мне рассказывает шепотом на ухо Нинка Акимова. «Такое» место в книге «Милый друг», без разрешения снятой с полки, мне показывает Наташка. И все это — неприлично. Над этим полагается ржать. И мы ржем, в компании. Но в одиночестве, в распаленном воображении, рисуется что-то невообразимо влекущее. Я леплю фигурки из пластилина — мужскую и женскую — и переплетаю их в объятии, испытывая темные порывы наслаждения, сладость недозволенного. На меня будто накатывает волна и возникает тягучее стыдное ощущение, когда в трамвайной толкучке меня притрет к какому-нибудь мальчишке. Я громко возмущаюсь, когда арбатский хулиганистый подросток, проходя мимо, грубо лапает меня пятерней и, осклабившись, исчезает в толпе, но в глубине души я понимаю, что мы с ним одного поля ягоды, только у меня «это» проявляется тайно, а у него явно.
Даже в песнях, передаваемых по радио, заключено что-то такое, что тоже вызывает чувственную волну. Может быть, их мужественность? «Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам…»
С особым интересом я читаю в книгах про пытки. В сущности, вся военная литература, особенно о подполье, пронизана темой боли, страдания, пыток. Натуралистические детали обжигают воображение. Хочется самой испытать боль, чтобы понять: а я бы выдержала, если бы оказалась в плену? Но это, по крайней мере, не тайна, потому что — не у меня одной. Это всеобщее поветрие и в классе и среди дворовых тоже. Мы просим друг друга:
— Ущипни меня изо всей силы! Еще! Еще!
Боль отзывается чувством почти сладострастным.
И это особенное возбуждение от присутствия мальчишек у кого-нибудь на дне рождения. Хочется сделать что-нибудь такое, чтобы обратить на себя внимание, и если это удается — тебя охватывает истерический восторг, отделенный хрупкой преградой от слез.
Нужна была поэзия, чтобы снять с души тяжесть, понять, что ты не одна со своими мыслями, что не надо стыдиться вообще никаких мыслей. Поэзия как чистая вода, как откровенная беседа с умным другом.
В дремучем лесу родительской библиотеки я счастливо набредаю на книжечку Ахматовой, вернее, на несколько маленьких книжечек, переплетенных в одну под розовой шелковой обложкой, тисненной атласными листочками. Набрела как на спасительный свет в окне, и постучалась, и мне открыли.
Ахматова в опале, к ее поэзии прочно прилип эпитет «упадническая», но мне-то что до этого. Скованная, запуганная душа моя жаждет именно такой поэзии. Каждое стихотворение хочется долго, медленно пить, оно пьянит, за каждой строчкой встает чувство, еще не пережитое, но готовое вспыхнуть и сжечь те паршивые чувствишки, которые так мешают жить.
Зимой на дне рождения у Вали я случайно оказываюсь за столом рядом с мальчиком в ковбойке, черных байковых штанах и вельветовой курточке. Это Сережа Скворцов, мы каждый год ездим в один пионерский лагерь. Он капитан футбольной команды, к нему многие девочки неравнодушны. Не только потому, что капитан. Он — справедливый. Защищает слабых. Прошлым летом он защитил Оську.
Оська — это был несчастный лагерный шут. В свои одиннадцать лет он страдал ужасным пороком — мочился в постель. Зря его послали в лагерь, но вот — послали. В другие годы находились другие несчастные, которые служили предметом насмешек, но, кажется, никому так не доставалось, как Оське.
Жестокость заразительна, и даже среди тех, кто в глубине души жалел Оську, находились такие, которые тоже издевались над ним. Может, от радости, что не над ними издеваются.
Оська жил в постоянном ужасе. Этот ужас был написан на его маленьком, бледном, подергивающемся личике. Но он не жаловался, потому что знал: если пожалуется, его убьют. Он даже знал, кто: Олег Снежный.
Да, у его главного мучителя была такая фамилия. Красивый, рослый парень из самых старших — ему было уже четырнадцать, — с породистым изнеженным лицом, он издевался над Оськой с садистским наслаждением.
В тот день после полдника шла игра на волейбольной площадке. Вожатая Рая сидела на верхней ступеньке стремянки и вела счет. Пели птицы. В беседке, окруженной подстриженными кустами желтой акации, девочки вышивали на пяльцах. А Оську вели за дом. Он шел между двумя рослыми красивыми ребятами — Снежным и Степановым, которые крепко держали его за рукава измятой, грязной белой рубашки. Сзади, посвистывая и сплевывая, шли еще двое — конвой. Оська не вырывался, но вся его щуплая фигурка выражала такой отчаянный страх, что, казалось, воздух дрожит над его круглой стриженой головой.
— Два — четыре, — сказала Рая. — Мяч налево.
Сережа, который стоял на подаче, отшвырнул мяч и быстрыми шагами, почти бегом, направился за теми. А те уже скрылись за домом. Рая сказала:
— Я побегу за Ольгой Николаевной и за Любой.
Она побежала, а мы, словно вдруг проснувшись, кинулись за дом.
Там была драка. Сережа бил Снежного. Остальные трое стояли рядом, но не вступались. Оська сидел на земле, прижавшись спиной к белой стене дома, и судорожно, без слез, всхлипывал. Снежный был старше Сережи и казался мощнее, но он был трус. Он отступал, закрывался руками, холеное лицо его, усыпанное родинками, было жалким.
Появились Ольга Николаевна и вожатые и потребовали немедленно прекратить драку. Сережа опустил руки.
— Дурак! — плачущим голосом сказал Снежный. — Мы ж его не собирались бить! Чего его бить, он от одного удара сдохнет. Мы его просто попугать хотели.
— В самом деле, Скворцов, — укоризненно произнесла Ольга Николаевна. — Что это еще за драки на территории лагеря? Если тебе что-то не нравится — поговори с товарищем, объясни, что не надо так делать, а не то что — сразу в драку. Нехорошо. Ну, помиритесь.
Сережа сказал Снежному:
— Ты у меня, гад, еще не так получишь. Попробуй только пальцем дотронуться до Оськи!
Вот с каким человеком я встречаюсь зимой у Вали. И все свои накопленные чувства, все свои представления о благородстве, справедливости, мужестве и красоте — отдаю ему. Он об этом не догадывается, и хорошо, что не догадывается, это мне только мешало бы, отнимало бы свободу воображения.
Он живет в Кривоарбатском переулке, и я чуть ли не каждый вечер иду гулять в надежде встретить Сережу. На Арбате я захожу в будку телефона-автомата, не опуская гривенника, снимаю трубку, набираю выдуманный номер, делаю вид, что разговариваю, произношу какие-то слова, загадочно улыбаюсь, киваю. Мне приятно думать, что прохожие, которые видят меня в будке, могут понять по выражению моего лица, что я разговариваю с мальчиком.
Я вешаю трубку и снова сворачиваю в Кривоарбатский, который плавным изгибом выходит в Плотников переулок, откуда можно повернуть налево, к дому, а можно — направо, к Арбату, и снова дать кругаля в надежде на этот раз встретить Сережу. Я рисую в воображении момент встречи, придумываю слова, которые ему скажу, а он — мне. Я готовлюсь, понимая, что многое зависит от первого слова и от первого взгляда.
И однажды он проходит мимо меня, оживленно споря о чем-то с товарищем. Я ошалело смотрю ему вслед. Он меня не узнал!
После минутного столбняка приходит мысль: а может, и лучше, что не узнал? Зато и не помешал игре, которая после этой встречи разгорается с новой силой.
Семейное благополучие
Обо всем этом никак не расскажешь маме, у которой свет клином сошелся на моих двойках, и всё, что не относится к ним, кажется ей не стоящими внимания помехами. А это и правда мешает. Ты сидишь за партой и утопаешь в фантазии. И вдруг учитель, которому надоело выражение отрешенности на твоем лице, выдергивает тебя из твоих мечтаний: