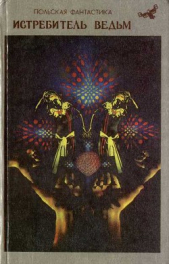История и фантастика
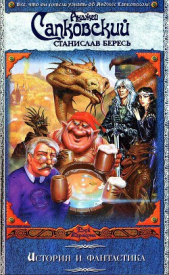
История и фантастика читать книгу онлайн
Все, что вы хотели узнать об Анджее Сапковском, но не знали, как спросить.
Откуда приходят к нему идеи для новых книг?
Какова роль истории в его произведениях?
Как зарождалась его сага о Ведьмаке?
Каковы его маленькие (и не очень) творческие секреты?
Что должен знать и уметь автор, желающий написать фэнтези?
Все это — и многое, многое другое — в потрясающем сборнике интервью Анджея Сапковского!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пожалуй, его военные достижения не были особо велики.
— Однако Варшавская битва была очень важным делом военной стратегии. Конечно, я помню обо всех его советниках, поэтому повторяю: возможно, меня несет волна повсеместно принятых суждений, касающихся маршала. Наша история, к сожалению, не изобилует примерами профессионалов военного дела. Если возвеличивают чьи-то заслуги, то это говорит скорее о храбрости, пролитой крови и почетном… поражении.
— Когда мы говорим о героической, отчаянной битве, мне вспоминаются извечные насмешки над чехами. Они действительно сдались Германии, но кто знает, не было ли их решение в исторических масштабах более удачным, чем потеря большей части биологической и материальной субстанции. Некоторые историки уже решаются сказать, что лучше держаться лисой, нежели дать раздавить себя танками. Интересно, допускаете ли вы такого рода мышления?
— Допускаю. В нас воспитали уверенность, что такое поведение, каким отличились чехи в 1939 году, хуже героических действий. Кажется, наш подход к проблеме искажен нашей историей. Нас научили восхищаться бессмысленной Самосьеррой [120] и с треском провалившимся бездумным восстанием [121]. Однако кто знает, не более ли мудро порой отказаться от обороны? Чехи не потеряли ценного человеческого материала, а «весь народ» не вынужден был поднимать Прагу из руин. Впрочем, теперь мы все чаще говорим, что вместо того, чтобы восхищаться Траугутгом, умирающим на стенах Цитадели, стоило бы лучше посмотреть на разных маркграфов Великопольши и подумать, не достойны ли они памятников.
Хотя, с другой стороны, нашей культуры нам не изменить. Дерущиеся с врагом по лесам повстанцы с картин Гроттгера и погибающая в Варшаве аковская [122] молодежь всегда будут для нас образом героизма, чехи же останутся синонимом трусости.
— Иначе говоря, вы склонны усомниться в разумности Варшавского восстания?
— Опять неразрешимый вопрос: и да, и нет. Известно, что Варшавское восстание в значительной степени имело демонстративный характер. Кто-то может усомниться, стоило ли ради такой цели жертвовать столькими людскими жизнями, устраивать человеческую гекатомбу и довести город до тотальной гибели, но ведь нам действительно было против чего демонстрировать. Надо также помнить, что в некий момент военный механизм обычно ускользает из-под контроля. Если уж вспыхивает восстание, то приходит ли кому-то в голову махнуть рукой и сказать: «Это глупо. Мы не пойдем»? (Издевательски.) Как же… Все идут и героически гибнут.
— Вы критически отзываетесь о повстанцах-зачинщиках. А как оцениваете поведение Хлопицкого, взявшего на себя руководство ноябрьским восстанием [123], хоть он и пяти минут не верил, что может выиграть у русских?
— Не знаю, что об этом думать, и боюсь перебрать в такого рода вопросах. У истории то свойство, что — увы — мы мало о ней знаем факты нам предлагаются сквозь призму определенной идеологии, служащей данному режиму. Это изменить невозможно. А значит, невозможно делать однозначные выводы об исторических событиях: этот был нерешительным, этот предателем, а этот героем. Следует отдавать себе отчет, что мы не знаем всей правды, а поэтому нечего и судить. Я к историческим фактам отношусь достаточно прохладно, они меня не вдохновляют. Знаю, что они повлияли на нашу нынешнюю ситуацию, но дискуссии относительно того, следовало ли поступить так, а не иначе, представляются мне бесплодными. (Чуть погодя.) Поверьте, мне не хотелось бы продолжать дискутировать на эту тему, потому что запросто можно запутаться.
— А если б вы намеревались написать исторический роман, опирающийся на судьбу истинной, небанальной фигуры, кого бы вы выбрали?
— (Задумчиво.) Да, это была бы серьезная проблема. Никто мне не близок настолько, чтобы я мог сказать: «Это именно он». Впрочем, сказанное относится к большинству проблем, о которых я говорю. Я просто не могу найти удачный пример, иллюстрирующий мои слова. Люди часто просят меня назвать три самые любимые книги. А я три назвать не могу. Могу — три тысячи.
— Отношение к выдающимся историческим личностям очень часто оказывается ключом к пониманию человеческих убеждений или типу исторического восприятия.
— (Перебивая.) Все это отдает какой-то мифологизацией. Конечно, в прошлом у нас было несколько серьезных побед, так что можно было бы отыскать пару-тройку важных для нашей истории имен, таких, как Ходкевич [124] или Ягелло, который, кстати, победой под Грюнвальдом обязан тактике, а не, как в те времена чаще всего бывало, колоссальному перевесу в силе. Я мог бы всю ночь просидеть над листом бумаги, выписать около сорока таких имен, только зачем? Это были личности, но ни одну из них я не вознес бы на алтарь, чтобы класть туда цветы.
— Представляю себе, что, если б я ввязался в разговор с французским писателем и попросил его назвать несколько исторических фигур, с которыми он был бы не против провести время, он наверняка сыпал бы ими как из рога изобилия, и, конечно, не имело бы значения, были ли бы это генерал де Голль, маршал Фош, Петэн или кто-нибудь другой, но это позволило бы нам начать диспут касательно его актуальных политических взглядов. Сейчас же я разговариваю с польским писателем, глубоко увязшим в исторической материи, а он мне говорит: «Никого такого нет»». Или: «Мне пришлось бы как следует подумать»». Удивительно.
— Потому что, как только я произнесу имя, тут же возникнет вопрос — а почему не кто-то другой? Подошли бы и Чарнецкий [125], и Ходкевич, и Пилсудский, и даже брат Мешко I Чтибор, который бился под Цедыней [126]. А если я загляну в учебник истории и вспомню об очередных битвах, то подкину еще нескольких. Поэтому не хочу устанавливать: этот есть number one, тот number two… Я не в состоянии молниеносно отметить, был ли Чарнецкий лучше Ходкевича, а оба они, вместе взятые, лучше Жолкевского.
— А может, вы просто-напросто разочарованы, потому что, по правде-то говоря, в прошлом мы в основном получали под зад коленом? Смотрите вы на нашу тысячелетнюю историю и спрашиваете себя: «Где они, великие вожди? Где они — великие деяния?»
— (С кислым видом.) Вероятно, вы правы.
— Вы полагаете, что только наша история этим отмечена? И почему же?
— Дьявол знает почему, но многое говорит о том, что так оно и есть. Правда, были эпохальные победы, например, под Грюнвальдом. Та битва действительно имела историческое значение европейского, если не всемирного масштаба. Орденское государство казалось непобедимым, и Крестоносцы лезли на наши земли, как только у них возникало желание — то просто пограбить, то ради демонстрации силы. Локетеку, правда, однажды удалось побить их арьергард, но когда вернулись остальные орденские рыцари, он тут же сбежал. Лишь Ягелло сломал эту мощь, хотя, разумеется, его победой не смогли воспользоваться. Перевесили в основном литовские интересы, о чем подробно пишет Ясеница.