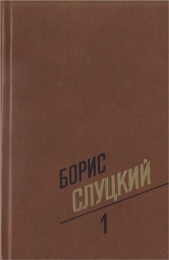Борис Слуцкий: воспоминания современников

Борис Слуцкий: воспоминания современников читать книгу онлайн
Книга о выдающемся поэте Борисе Абрамовиче Слуцком включает воспоминания людей, близко знавших Слуцкого и высоко ценивших его творчество. Среди авторов воспоминаний известные писатели и поэты, соученики по школе и сокурсники по двум институтам, в которых одновременно учился Слуцкий перед войной.
О Борисе Слуцком пишут люди различные по своим литературным пристрастиям. Их воспоминания рисуют читателю портрет Слуцкого солдата, художника, доброго и отзывчивого человека, ранимого и отважного, смелого не только в бою, но и в отстаивании права говорить правду, не всегда лицеприятную — но всегда правду.
Для широкого круга читателей.
Второе издание
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь он выбирал переводы, отвергая «любой земли фразеров и лгунов». Находил оправдание своей работе, видел в ней смысл. Это Арсений Тарковский воскликнул: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!» Слуцкий в своей постоянной головной боли (следствие контузии) переводы не винил. Наоборот.
Когда Таня заболела, он переводил не только по этой причине. Дача, лекарства, врачи стоили бешеных денег.
Болезнь брала свое, хотя внешне Таня почти не менялась. Стала чуть бледнее. А Борис сделался еще внимательнее к ней, старался угадать любое желание, удовлетворить любую прихоть.
Иногда Таня сама отправляла нас гулять. Возможно, ей хотелось отдохнуть. Возможно, ей хотелось, чтобы отдохнул Борис.
Часами мы бродили со Слуцким по переделкинской роще. За Мичуринцем веселый светлый березняк переходил в смешанный лес. Однажды, взяв западнее, дошли до Баковки. В пристанционной аптеке, поразив воображение молоденькой провизорши, купили на двадцатку снотворных (оба мучились бессонницей).
Когда возвращались, Борис вдруг остановился и спросил, сколько надо проглотить таблеток, чтобы уже не проснуться.
Я на минуту опешил от вопроса, но лишь через много лет понял его неслучайность…
Слуцкий и прежде редко говорил о своих стихах, еще реже их читал. Однажды признался, что пишет в ящик.
Меня это донельзя изумило. Он всегда хотел публиковаться. Пусть редактора цепляются, обдирают углы и выдирают фразы. Но все должно лечь на редакторский стол, а не покоиться в столе автора.
Работой, делами других он интересовался по-прежнему. Обо всем выспрашивал, не довольствовался отговорками.
Сейчас, когда я восстанавливаю в памяти тогдашние разговоры, у меня возникает предположение, что о чем-то он расспрашивал по инерции. Думал совсем о другом, думал об одном.
На той стадии Таниной болезни он совершил нечто даже по нынешним временам почти фантастическое. В те годы — без «почти». Таню отправили в Париж, положили в гематологическую клинику, располагавшую препаратами, которых у нас нет.
Вероятно, это несколько продлило ее жизнь. Но не спасло.
На поминках Борис выпил стакан водки, потом — еще. И ни в одном глазу. Поднялся, отрешенно произнес:
— Соседский мальчик сказал: «Тети Тани больше не будет». Вот и все.
Стихи о Таниной смерти читать невозможно — такова беззаветность и самосжигающая власть чувства.
Он отходил, отделялся от жизни, отстранял себя от нее, «переобучался одиночеству».
Потом больница. Сперва 1-я Градская — для обыкновенного населения. Потом, благодаря хлопотам К. Симонова, Кунцевская — для «начальства».
После долгих больничных месяцев Слуцкого выписали. По-моему, в том же состоянии, в каком положили.
Изредка он звонил, задавал два-три стандартных вопроса. От встречи уклонялся: «Как-нибудь потом…»
Однажды по телефону сказал: «Я уже не тот поэт, за кого меня принимают. Когда-нибудь в этом удостоверитесь…» И положил трубку.
Он перебрался в Тулу к брату — отставному полковнику-артиллеристу. Помогал по дому: ходил в булочную, выносил помойное ведро, следил, как внучатый племянник готовит уроки.
Меж тем в журналах публиковались стихи. Преимущественно из папок, что лежали в столе. Или из толстых тетрадей, исписанных за два с половиной месяца после Таниной смерти.
Когда Бориса Слуцкого не стало, поток этот усилился. Его воистину выстраданное слово набирает мощь, и дерзким пророчеством звучит давняя, ожившая строка: «Снова нас читает Россия…»
Читает Пастернака, Цветаеву, Клюева, Мандельштама, Слуцкого, запрещенные прежде поэмы Ахматовой и Твардовского.
Читает поэтов, увидевших глубины народного бедствия, бесстрашно сказавших о том и тяжко поплатившихся за свое прозрение.
«Если зовет своих мертвых Россия…». Нет, сейчас она зовет их в надежде избежать новых трагедий. [15]
Лазарь Лазарев. «С Надеждой, правдой и добром…»
В одной из статей Реми де Гурмона прочитал: «Крупный писатель всегда находится в становлении, даже после смерти — возможно, даже более всего после смерти. С ним никогда не бывает все ясно, и судьба его развивается от поколения к поколению». Прочитал и сразу подумал о Борисе Слуцком — о его прижизненном положении и о грядущей судьбе его стихов. Звезда его поэзии, как мне кажется, только начала по-настоящему восходить, но она движется на поэтическом небосклоне вверх и светит все ярче и ярче…
Назым Хикмет говорил: «Поэты ревнивы, как красивые женщины». Вот почему признание поэтов-современников немало значит. Недавно Александр Межиров принадлежащий к тому же, что и Слуцкий, фронтовому поколению, писал: «Вероятно, Я. Смеляков и Б. Слуцкий были последними перед нынешним промежутком крупными поэтами России». Поэты следующих, младших поколений говорят еще определеннее. «Теперь можно сказать то, что почему-то не принято говорить при жизни: назвать его великим, — это слова Евгения Евтушенко. — Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени». Я слышал выступления Владимира Соколова и Дмитрия Сухарева, они говорили то же самое: Слуцкий — самый большой поэт последних десятилетий.
Если сегодня еще не очень широк круг читателей и почитателей, понимающих масштаб и подлинное значение поэзии Слуцкого, знающих ее истинную цену, уверен, не за горами время, когда необъяснимо странным будет казаться, как это могли не видеть, не понимать в ту пору, когда он был жив-здоров, шагал по московским улицам, приносил в редакцию свои стихи, которым нередко приходилось публикации дожидаться в длиннющей очереди, а порой их и вовсе отвергали, когда диким будет казаться, что на вечерах поэзии шумными аплодисментами встречали не его, а других поэтов. Впрочем, так уже бывало — и на нашем веку тоже: какие-то фигуры, находившиеся при жизни в тени, потом выступали вперед, вырастали, вызывали жгучий интерес, заслоняя былых кумиров. И будут те, кто придет нам на смену, недоумевать, почему замечательных художников не осаждали интервьюеры, не снимали кинооператоры, почему так мало сохранилось живых свидетельств очевидцев об их жизни. Разве не так случилось с Андреем Платоновым, Михаилом Булгаковым, Василием Гроссманом, на наших глазах превратившимися в классиков?
Слуцкий прозревал те времена — пусть, как ему казалось, еще не близкие, — когда будет восстановлена историческая и эстетическая справедливость, утвердится «гамбургский счет». Нет, при этом думал не о себе, не о судьбе своих стихов — во всяком случае, об этом не в первую очередь, — а прежде всего об общем порядке вещей, который должен непременно измениться так, чтобы все встало на свои места. Об этом одно из его стихотворений, опубликованное после смерти, при жизни, в «застойные» времена, нельзя было и помыслить его напечатать:
Начал вспоминать Бориса Слуцкого, а в памяти вдруг возникло другое, вроде бы к нему прямого отношения не имеющее. В начале 60-х годов Вера Смирнова делала доклад на обсуждении первых книг прозаиков фронтового поколения, вокруг которых на страницах печати уже завязались ожесточенные бои. Непонятно, почему доклад был поручен ей, не имевшей ни малейшего представления о фронтовой жизни, о действующей армии, о переднем крае. Правда, может быть, именно поэтому и поручили; легче и проще было обличать и осуждать, — и делала это она весьма решительно и уверенно. Доказывая, что повести Бондарева и Бакланова от лукавого, имя которому Ремарк, она уличала их героев в безыдейности, в том, что они погрязли в окопных буднях и совершенно не интересуются теми большими и героическими делами, которыми тогда жила страна. Авторы, заявляла она, исказили реальный облик советских воинов. Подумать только, голос ее наливался металлом: на своем плацдарме герои «Пяди земли» газет не читают, радио не слушают! «И магазинов ТЭЖЭ там нет» бросил ей из зала реплику Григорий Поженян. Она не поняла и переспросила, он повторил громче. В зале зашумели, но докладчица все равно не поняла смысла реплики и продолжала нести всю эту постыдную околесицу. Смешно? Тогда все это смешным не казалось. «Окопная правда», «ремаркизм», «натурализм», «кочка зрения» — этим не шутили, «лейтенантская» литература и в устных выступлениях, и в печати атаковалась по всем критическим правилам того времени, бой шел на уничтожение…