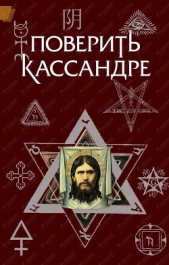Между двух революций. Книга 3

Между двух революций. Книга 3 читать книгу онлайн
«Между двух революций» — третья книга мемуарно-автобиографической трилогии Андрея Белого. Перед читателем проходят «силуэты» множества лиц, с которыми писатель встречался в Москве и Петербурге, в Мюнхене и Париже в 1905–1912 годах. Интересны зарисовки Блока и Брюсова, Чулкова и Ремизова, Серова, Жана Жореса, Коммиссаржевской и многих других.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Александр Бенуа незаслуженно некогда снизил значение Врубеля; после же — каялся 128.
Вылощенный, как натертый паркет, элегантно скользящий, немного сутулый, в пенсне, в сюртуке, — Александр Николаевич черной опрятно остриженною бородою и лысиной блещущей несся, глядя исподлобья глазами лучистыми, производя впечатленье красивого и темпераментного человека; не знал: мозг иль сердце диктуют ему плодотворную деятельность.
— «Субъективный капризник, — ворчали маститые. — Вся эрудиция — бьющий крылами в пыли воробей! „Пррх-пррх — Врубель“; „пррх-пррх — Луи-Каторз“; 129 „пррх — ампир“».
— «Головной резонер, проповедующий мертвечину, — ворчали непризнанные, — его сдать бы в никчемные „Старые годы“: [Специальный журнал, посвященный истории культуры, искусств и коллекций 130] старик молодящийся!»
Выглядел он моложаво, изящно мелькая своим силуэтом, похожим на черную сепию, — всюду: на выставках, лекциях и на премьерах балета; мелькнет и зацепится: мягко сутулясь широкой спиной; с кем-нибудь разговаривает с близоруким, чуть-чуть церемонным расклоном на вытянутой перед собою ноге; и естественным, легким движеньем скругленной руки, давши острую характеристику виденного, проскользнувши, исчезнет; с французским изяществом сжато бросал он итоги раздумий своих — парадоксами.
— «Это гурманство», — ворчали одни.
— «Мозгология», — негодовали другие.
И он не казался способным к сердечности: вежливым, мягким, салонным, придворным.
— «Не сердце, а такт».
Встречи с ним — встречи замкнутых сфер в одной точке; моя сфера: литература, «Весы», но и Гегель, и Кант, и методика естествознанья, и гнозис религий; а сфера его — становленье новейших течений искусства в конце позапрошлого века; глядел от «сегодня» — в «назад». Точка пересечения нашего — точка культуры; но в этой единственной точке ценил Бенуа я единственно; это — не Грабарь, чиновник культуры, в себе разложивший полет: ироническим скепсисом.
От Бенуа всегда веяло сочностью; даже его субъективность казалась мне легкой разведкой: пред выводом; он был со мною внимателен, мягок, даря свою ласковость легким броском из богатства — в редакциях или в передних, где с ним мы встречались не раз; я, бывало, — вхожу; он — навстречу сутуло выносится чисто промытою лысиной, ленту пенсне развивая; и плещутся кончики фалд длиннополого, скроенного хорошо сюртука; руку — под руку: снимет пенсне и его на шнурочек наматывает, ко мне вытянув сочные губы; прищуро рисует любезную фразу; и, руку пожавши, с расклоном скругленным, широкой спиной умелькнет.
Наши встречи — прохожие; только у Щукина, кажется, носом под нос мне подъехав и пуговицу сюртука ущипнув двумя пальцами, тихо повел он от общей беседы меня в уголок теневой, где, меня усадивши на мягкое кресло, сел, сгорбись, на маленьком пуфике; щурясь и мягко касаясь рукою коленей моих, выговаривать стал неожиданно очень интимные вещи о том, как он видит предметы; и, снявши пенсне, протирал его; веяло теплым уютом от этого боевого, салонного, чернобородого мужа; исчез «дипломат»: никаких «мирискусничеств»! В милой улыбке — доверчивость; в ясных глазах, устремленных в пространство, — мечтательность нежная: он говорил — как с собой; может быть, он мне верил, любя мою первую книгу; он мне приоткрылся в тот вечер; он точно повел меня под абажурик пунцовенький, свет свой бросающий в темно-лиловые тени; с тех пор силуэт Бенуа неизменно мне виделся с примесью темно-лиловых и темно-малиновых колеров; эти цвета представлялись мне в виде малюсеньких куколок, спрятанных под сюртуком дипломата; я понял: любезная мягкость — от сердца; а вылощенные парадоксы — броня.
Бенуа-публицист осветился впервые.
С ним вместе бродили по улицам в день карнавала, — в толпе котелков, дымовеющих перьев и в лёте бумажек — лиловых, зеленых, малиновых зернышек; их продавали повсюду; прохожие, их накупив, осыпали горстями нас; сели за столик открытой веранды кафе: на одном из бульваров, и пиво спросили себе; но дождями бумажек запырскали нас; Бенуа отряхал с котелочка малиновые и лиловые пятнышки; он с озорством совал руку в мешочки свои; как мальчишка, вскочив, высыпал на прохожих веселые пестри; рукой опираясь в перила, сутулой спиною повесился; прыгали отблеском стекла пенсне, и мотался шнурок; расплатясь, мы слились с карнавальной толпой; в нас метали дождем перекрестным мушинок; он, взяв меня под руку, локтем толкая, широкой спиной навалясь, — вел к себе; и скругленной рукой разрисовывал в воздухе мненье; позвал отобедать; привел в небольшую квартирку, представил жене, еще маленькой дочке; 131 и после обеда уютно сидел со стаканом бордо; говорил об игрушках и книжках с картинками.
Я погашаю экран, потому что нерв жизни моей в это время — не встреча с людьми, а анализ себя и стремление высвободить свое «я» из-под штампа, наложенного на меня обстоянием; жалоба «Бореньки»: деятель «Белый» есть шут обстоятельств; я знал: покажи себя «Боренька» подлинным, — Минские, — даже друзья, даже — Метнер и Эллис, — отвергнут его; круговая порука обстанья, вработав в себя, точно замуровала.
Такое сознание — тоже болезнь, как и жизнь в кривых жестах; одною болезнью я силился уравновесить другую; а третья — подкрадывалась.
Я мог бы рассказать, как читал свою лекцию [ «Социал-демократия и религия»; лекция была повторена в Москве и раскритикована Булгаковым, Бердяевым; напечатана в журнале «Перевал» за 1907 год; писалась для сборника Мережковского «Le tzar et la revolution» 132] в русской колонии, как разнесли социал-демократы, как критиковал Мережковский; Жорес был единственный просвет; все прочее — сумрак.
— «Ну там — завели б отношенья с французами… — Гиппиус мне. — Есть же здесь ряд поэтов».
Однажды в кафе пригласила она, где сидел символист Папандопуло, иль «Мореас» [Мореас — французский поэт, родом грек] (псевдоним); 133 отказался; она же ходила; рассказывала: Папандопуло в плясы пустился; с Рашйльд, утонченнейшим критиком «Меркюр де Франс» [Журнал], познакомилась Гиппиус; 134 а Мережковский был принят в салоне у Франса; я раз пошел слушать Буайе: [Профессор русского языка] лет семнадцать назад Поль Буайе жил два года в Москве, изучая язык и бывая — у нас, Стороженок, у многих ученых; я знал его очень любезным, поджарым, веселым брюнетом; увидел седым, но таким же, как был, легкомысленным; он произнес удивительно общую, нехарактерную речь, наделив Мережковского роем эпитетов от «гениальный» до «всем нам известный»; пятнадцать студентов записывало; Мережковский для них минут двадцать читал, демонстрируя русское литературное слово; и мы окружили профессора; чуть не сказал ему: «Месье Буайе, вы, конечно, не помните мальчика Борю, к которому вашего Жоржа водили играть». И, одернув себя, ускользнул, убоясь, что представят и в качестве «Белого» продемонстрируют, даже заставят стихи прочитать.
Раз пришло приглашение мне от писателей группы «Фалянж» [Орган неосимволистов 135] на обед, ежемесячный; был; никого из знакомых! Никто не представился мне; в свою очередь: я никому не представился; кто-то, сев рядом, показывал:
— «Вот — Шарль Морис».
И я видел: брюнет с мефистофельским профилем крутит бородку, докладывая о судьбе неизвестного мне альманаха:
— «Поэт де Суза, — гениальный!»
Я видел шатена курносого: ел, как и я.
— «Зулоага — знаменитый испанский художник».
И видел: кофейного цвета кусок пиджака, загорелую шею; и — черное что-то: наверное, — волосы.