Тетрадь для домашних занятий. Повесть о Семене Тер-Петросяне (Камо)
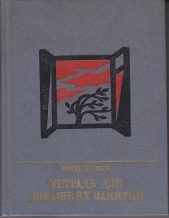
Тетрадь для домашних занятий. Повесть о Семене Тер-Петросяне (Камо) читать книгу онлайн
Армен Зурабов известен как прозаик и сценарист, автор книг рассказов и повестей «Каринка», «Клены», «Ожидание», пьесы «Лика», киноповести «Рождение». Эта книга Зурабова посвящена большевику-ленинцу, который вошел в историю под именем Камо (такова партийная кличка Семена Тер-Петросяна). Камо был человеком удивительного бесстрашия и мужества, для которого подвиг стал жизненной нормой. Писатель взял за основу последний год жизни своего героя — 1921-й, когда он готовился к поступлению в военную академию.
Все события, описываемые в книге, как бы пропущены через восприятие главного героя, что дало возможность автору показать не только отважного и неуловимого Камо-боевика, борющегося с врагами революции, но и Камо, думающего о жизни страны, о Ленине, о совести. Перед читателем предстает образ практика революции, романтика и мечтателя, самоотверженно преданного высоким идеалам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он целыми днями бродил по развалинам и по улицам и удивлялся строгим, почти суровым лицам греческих женщин, а в ее лице была обнаженность души, какая бывает на иконах, и серые, радостно-доверчивые глаза, и это он увидел сразу, потому что она шла ему навстречу, а он шел с Парфенона и, увидев ее, остановился и спросил первое попавшееся, как пройти к Парфенону. Она ответила, что он идет прямо в противоположную сторону, и только тогда он понял, как удачно спросил, потому что теперь мог повернуть и идти обратно вместе с ней. Она говорила по-болгарски, а он знал несколько десятков болгарских слов, и так, разговаривая по-болгарски и жестами, они дошли до Парфенона, и он, неожиданно для себя, сказал ей, что только что здесь был, и тут же подумал, что теперь она решит, что он ловкий и опытный с женщинами человек, потому что так хитро спросил о Парфеноне, а с ним это было впервые, да и не было у него никогда раньше свободного месяца, чтоб он мог вот так ходить без дела по улицам и кого-то встретить, и еще ему захотелось ей рассказать свою жизнь… Но он не сказал даже, как его зовут, потому что уже ни в чем не хотел ее обманывать, и она, видно, о чем-то догадывалась и, помогая ему, тоже не назвала себя и еще шутила — в имени есть что-то оскорбительное, как будто без имени боятся не узнать друг друга; что касается ее, то имя ей даже помешает, потому что то, что есть в его лице, этого больше ни в чьем лице нет и не может быть, а имя, такое же, может быть и у другого, и обязательно есть у кого-нибудь еще и даже, вероятно, у многих, и это-то ей мешает, и еще говорила что-то такое же веселое и странное, и так они провели остаток этого дня и еще несколько дней и вечеров, и однажды она спросила, любит ли он пение, и предложила пойти в кафе или в кабаре, где поют, но он не мог даже на нее потратить партийные деньги и сказал, что у него нет денег, и тогда она повела его к морю и вдруг стала петь — сначала шепотом, чуть хрипло, потом чисто, ясно и все громче, но ему казалось, что она по-прежнему поет шепотом, а потом она сняла туфли и побежала босиком по песку вдоль моря, шлепая по воде, и он бежал за ней, проваливаясь ботинками в воду и в мокрый песок, и в тот вечер она сказала ему, что все бросит и поедет с ним в Россию, если понадобится — и на край света, а он ответил, что не понадобится, потому что на каторгу он уже не попадет — если его арестуют, тут же повесят. Это у него вырвалось оттого, что вдруг стало странно что-то от нее скрывать, но больше он ничего не сказал, а для нее это было как признание, и она молча, испуганно прижалась к нему.
После этого несколько дней он не приходил на развалины Парфенона, где они встречались, ходил один по городу и думал, что теперь делать. Все произошло так, что он не мог ее не встретить: и этот арест в Константинополе, и то, что его отправили в Афины и закрыли Дарданеллы… Судьба то ли испытывала его, то ли хотела спасти от того, что его еще ждало, то ли награждала за прошлое, а потом ему стало ясно, что надо думать не о своей судьбе, а о ней, и тогда решение пришло сразу.
А она не стала больше ждать, когда он придет к Парфенону, и однажды утром встретила его у подъезда дешевенькой гостиницы на окраине, где он жил. Она, не здороваясь, с надеждой спросила, не болен ли он был все эти дни, и он, отвергая то, что она подсказывала, ответил, что нет, не был болен, и, с трудом подбирая болгарские слова, прибавил, что ему было некогда, и еще резче, развязнее, с ненавистью к себе почти выкрикнул:
— Надоело! Скучно! Скучно… Я устал…
Она смотрела на него с ужасом и состраданием. Потом сказала:
— Если бы я поверила тебе, это было бы хуже, чем то, что ты решил уйти. Я так и не знаю, кто ты, но я знаю, что ты самый чистый человек, которого я за свою жизнь встречала. Я буду думать о тебе и молиться, чтобы бог тебя берег.
В тот же день он выехал в Константинополь: Дарданеллы все еще были закрыты. В Константинополе начальник полиции принял его как старого знакомого и сказал, что на этот раз его никто не тронет, но и после этого он называл себя в Константинополе отцом Бернардом, пел в церкви Санта Анна, и Цвета, сестра болгарина Трайчева, который привозил из Софии нелегальную литературу и снимал в Константинополе квартиру, говорила, что, когда он поет в Санта Анне, туда нельзя попасть, что у него действительно редкий и красивый голос, и после революции в России он обязан стать певцом, а он смущался и отвечал, что после революции в России надо будет еще сделать мировую революцию, а к тому времени голос у него пропадет.
Неожиданно в Константинополь из Персии приехал бывший боевик Гиго Матиашвили, по кличке Дедал-Гиго, и он обсудил с Гиго план нового экса, а для начала, с паспортом Трайчева, послал его в Трапезунд, и Гиго все сделал, как он сказал, и сдал кому надо в Трапезунде груз с оружием, а потом через Персию поехал в Тифлис и стал ждать его в Тифлисе.
Потом были неудачи.
Тифлисский комитет запретил эксы — остатки боевиков во главе с Инцкирвели провалились в девятом году, Шаумян, Джапаридзе, Сталин были в ссылке, Серго — в тюрьме, Цхакая — в эмиграции, надо было уходить в подполье, собирать новых людей, — и на все это он отвечал, что именно поэтому нужны деньги, и нужно еще разоблачить всех провокаторов в центре и за границей, а иначе все лучшие люди исчезнут, как песок в решете, и на это нужны деньги, и все-таки экс ему запретили, и тогда он впервые пошел против комитета и поехал в Москву, к Красину, хотя знал, что Красин отошел от линии центра. (А может быть, именно поэтому и ждал, что Красин его поддержит.) Красин сказал: ты действительно сумасшедший, если берешься сейчас за экспроприацию, посоветовал готовиться к эксу за границей, дал сто рублей — все, что имел, — и обещал присылать еще помесячно, в течение года, пока наберется нужная сумма.
За границу он не поехал, вернулся в Тифлис, ездил в Баку и Эривань, денег не достал, послал Кахояна в Алаверды на медные рудники за динамитом и сам вместе с Гиго готовил бомбы. На расходы часть своего жалованья отдавал Саркис Касьян. (Касьян входил в большевистскую группу и после ареста Орджоникидзе возглавил ее. На квартире Касьяна, на Елизаветинской, была явка.)
Это был его последний экс — и на той же Коджорской дороге, где случился первый, но этот провалился: две бомбы не взорвались, остальные разбили на мелкие куски повозку с охраной, а стражник с первой повозки, где были деньги, открыл пальбу. Убегали через Ботанический сад. Шел дождь, и собаки не могли взять след. Десять дней скрывались у Касьяна, на Елизаветинской. Гиго был ранен в ногу. Он вскрыл рану Гиго ножом и извлек пулю.
Арестовали его через три месяца — в январе тринадцатого года, в Тифлисе, у «Северных номеров», — подошли сразу со всех сторон и скрутили руки. Девятого февраля освидетельствовали и признали здоровым, второго марта приговорили к смертной казни.
Прокурор Голицынский до суда несколько раз приходил к нему в камеру, сожалел, что нет ни одного облегчающего обстоятельства, говорил, что сочетание воли и бескорыстия — предмет подражания, а не уничтожения, что берлинская симуляция не имеет равных во всей истории судебной медицины, расспрашивал о семье, прочел на английском и пересказал сонет Шекспира о том, что надо иметь детей, а он ответил, что Шекспир, вероятно, писал свои сонеты не для приговоренных к казни, и Голицынский согласился — прищурил и без того узкие, спрятанные за пухлыми щеками глаза и несколько раз сокрушенно кивнул, и он тогда подумал, что, может быть, Голицынский тоже, как Малиновский, выполняет перед богом человеческий долг, но прокурор не следователь, за ним последнее слово, и он его скажет, все статьи ведут к смерти, и он успокаивал Голицынского и опять шутил: должен когда-нибудь и Камо умереть, на его могиле давно могла вырасти высокая трава, и Голицынский опять соглашался, а в последний свой приход, перед самым судом, больше молчал, поблескивал из узких щелок острыми скорбными зрачками и как будто хотел в чем-то признаться, но вдруг стремительно вышел из камеры, и после этого он видел его только на суде: Голицынский перечислил все его преступления и все предусмотренные на них статьи и потребовал смертной казни. Через месяц после приговора ему объявили, что казнь заменяется двадцатью годами каторги, и он узнал, что Голицынский послал приговор на утверждение с опозданием, дождавшись амнистии по поводу трехсотлетия дома Романовых, и за это получил выговор и испортил себе карьеру.























