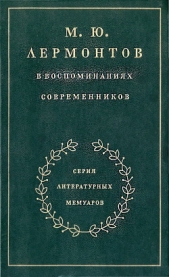Эйзенштейн в воспоминаниях современников

Эйзенштейн в воспоминаниях современников читать книгу онлайн
В сборнике воспоминаний о выдающемся мастере советского кинематографа С. М. Эйзенштейне выступают крупнейшие советские режиссеры и актеры — Л. Кулешов, Г. Козинцев, С. Юткевич, Г. Рошаль, М. Штраух, С. Бирман, Г. Уланова; композитор С. Прокофьев; художник М. Сарьян; критики Р. Юренев и И. Юзовский; зарубежные кинодеятели — Ч. Чаплин, А. Монтегю, Л. Муссинак, А. Кавальканти и другие. Они делятся своими впечатлениями об Эйзенштейне — режиссере, драматурге, теоретике и историке кино, художнике, ораторе, публицисте, педагоге.
Сборник представляет интерес как для специалистов, так и для массового читателя, интересующегося проблемами киноискусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы с Хохловой несколько раз бывали у Эйзенштейна и на первой квартире на Чистых прудах, и на второй — на Потылихе (несуществующий теперь дом «Мосфильма»).
Какое количество чудес показывал нам Эйзенштейн — и книги, и рисунки, и старинные фотографии, и мексиканские маски, и сомбреро, и детали китайских театральных костюмов, — он уводил нас своими рассказами в глубину веков и в разные страны, знакомил с известнейшими всему миру общественными деятелями и художниками; он рассказывал без конца, и надо было иметь гениальный мозг Эйзенштейна, чтобы все рассказанное и показанное запомнить, зафиксировать навсегда, — мы никогда бы не смогли этого сделать.
Необычайно интересна была дружба Эйзенштейна с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Это было подлинно творческое содружество режиссера и композитора. Эйзенштейн не только очень ценил великолепный талант Прокофьева как композитора, но и его удивительную пунктуальность в работе. Если Прокофьеву заказывали за несколько месяцев музыку к определенному дню и часу, а потом, как водится в кино, забывали об этом, то все равно в назначенный день и час открывалась дверь и входил в комнату Прокофьев.
Эйзенштейна поражала подобная точность, тем более что сам Сергей Михайлович грешил тем, что иногда снимал свои фильмы слишком долго и почти никогда не укладывался в производственный график.
Мне рассказывала Галина Сергеевна Уланова об одром свойстве Прокофьева. Когда по поводу первой постановки «Ромео и Джульетты» был дан вечер и Улановой пришлось танцевать с Прокофьевым, то она долго не могла приноровиться к особому, своеобразному ритму Сергея Сергеевича, танцевавшего «чуть по-своему» обыкновенный бальный вальс.
Мне скажется, что ритмы Эйзенштейна и Прокофьева чудесно совпадали.
Еще одним другом Эйзенштейна был великий китайский актер Мэй Лань-фан, игравший по традиции старого национального театра роли женщин. Мы вместе с Эйзенштейном не пропускали ни одного спектакля с участием Мэй Лань-фана: какая женственность, какая четность движений, какое умение видеть, какой временами остановившийся «взгляд птицы».
Мэй Лань-фан приезжал к нам во ВГИК. Мы беседовали с ним, и он оказался в жизни обыкновенным, даже слегка полноватым мужчиной, больше похожим на делового коммерсанта, чем на очаровательную женщину, которой он всегда был на сцене.
В этот год Эйзенштейн ответил на анкету: «Что Вас поразило в настоящем году?»
— Мэй Лань-фан и «Три свинки» Диснея.
Как его прорабатывали за это!
Я помню один очень тяжелый день в моей жизни, связанный с Эйзенштейном. Его вторая серия «Ивана Грозного» была запрещена. Но нам он ее показал. Вышло постановление о «Большой жизни». Эйзенштейн был удручен и подавлен; я назначен заведующим кафедрой. И вот предо мной стояла задача провести кафедру, посвященную проработке и осуждению творчества Сергея Михайловича, — осуждению гениальной второй серии «Ивана Грозного»!
Я знал, что Эйзенштейн все понял, я знай, как тяжело ему, ибо я сам бывал не раз прорабатываем.
«Проработка» состоялась, оно всем членам кафедры удалось провести ее с необходимым тактам, нам удалось не оскорбить художника и не растравить чудовищной раны Эйзенштейна; он вышел с нашего заседания глубоко благодарный, — он понял нашу любовь к нему, наше сочувствие, несмотря на проведенную «операцию».
После этого заседания Сергей Михайлович; поехал ко мне домой, просидел до позднего вечера и нашел в себе силы весело мечтать о горячем воздушном пироге с мороженым внутри и заговорил об исправлении второй серии «Грозного».
Я считаю, что наиболее важную работу мы проделали с Сергеем Михайловичем над программой кинорежиссуры для ВГИКа, автором программы был Эйзенштейн, но он много и внимательно советовался по поводу нее со всеми членами кафедры, и в частности со мной. А курс, разработанный мною в книге «Основы кинорежиссуры», являлся как бы введением в курс режиссуры Эйзенштейна, поэтому он написал такое хорошее предисловие к этой книге и не только разрешил мне, но и посоветовал включить в книгу его статью «Монтаж 1938».
Во время моей защиты докторской диссертации Эйзенштейн ехидно спросил:
— Почему, Лев Владимирович, вы изъяли из диссертации «Монтаж 1938»?
Я ответил:
— Я не хотел, Сергей Михайлович, присваивать себе вашу замечательную работу.
Я должен благодарить судьбу за то, что она мне подарила счастье жить с Сергеем Михайловичем, и для меня является великой честью, что он в свои предсмертные часы думал немного и обо мне, когда писал мне последнее письмо о цветном кино. Сердце мое всегда будет с Сергеем Михайловичем.
И еще несколько слов для молодежи.
Судьба Эйзенштейна грандиозна: он познал мировую славу и прошел сквозь тяжелейшие испытания, но всегда, во все дни он оставался тмим собой — со всеми одинаков. Эйзенштейн оставался Эйзенштейном и в дни печали и в дни мировой известности.
Я знаю других людей, чья слава затормозила их творческий рост и изменила их человеческий облик.
Эйзенштейн всегда был, остался и останется Эйзенштейном.
Он был великий непревзойденный советский революционный художник, теоретик, педагог.
Он был всегда другом своих учеников и другом своих товарищей. Он не жалел себя и отдал себя советскому искусству и особенно любимому им ВГИКу без остатка. Он был щедр — этот великий человек с огромным человеческим добрым сердцем. И мы, как вгиковцы, должны быть счастливы, что именно в наших вгиковских стенах подвизался Эйзенштейн, что в них он творчески рос и с великой щедростью отдавал свои знания всем, кто учился у него, или помогал ему, или просто находился рядом с ним.
Теперь, когда так отчетливо ясна необходимость преемственности нового от лучшего прогрессивного наследия старого, — роль Эйзенштейна становится особо значительной.
Истинный новатор в двадцатых годах, Эйзенштейн не переставал быть новатором до конца своей жизни и не перестает быть новаторам и по сей день, ибо его искусство и его научные труды еще должны изучаться и быть актуальными и сейчас и в далеком будущем.
Эйзенштейн, как и его современник — Маяковский, встал в один ряд с классиками мирового искусства, а классическое искусство бессмертно!
Не все могут быть гениальными, как Эйзенштейн, но трудолюбивым и чутким должен быть каждый, и каждый, кто работает в кино или учится во ВГИКе, должен стараться быть в этом именно таким, как Эйзенштейн. Вот почему у Эйзенштейна надо учиться всем режиссерам, всем педагогам и всем студентам.
Человек, который приносит миру новое искусство и задушевное тепло своего сердца, — это настоящий человек, и таким для нас всегда будет Сергей Михайлович Эйзенштейн. Он для нас всегда будет великим и живым.
Борис Михин
Первое знакомство
Шел 1923 год. Я был назначен заведующим производством Госкино и вместе со взятыми мною на учет оставшимися специалистами ютился в двух маленьких комнатах национализированного особняка в Малом Гнездниковском переулке.
И вот однажды во время занятий кто-то из товарищей ввел ко мне двух человек: одного постарше, другого помоложе, одного потолще, другою похудощавее. Оба представились мне — это были С. М. Эйзенштейн и Г. Б. Александров. Помню, меня несколько поразил исключительно высокий регистр голоса Эйзенштейна и вздыбленные, торчащие во все стороны волосы на его голове. Александров был помоложе, казался красивее и, во всяком случае, выглядел более «обыкновенно». В то время он был помощником Эйзенштейна. Из разговора выяснилось, что Эйзенштейн — режиссер Первого Рабочего театра Пролеткульта. Фамилия эта мне тогда ничего особенного не сказала. Впрочем, в связи с ней я вспомнил о поднявшихся в Москве разговорах по поводу спектакля, казавшегося «левым» даже наиболее «левым» деятелям нового театра Пролеткульта. Это была переделка пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Часть наших кино специалистов, видевших спектакль, отзывалась о нем с возмущением, как о недопустимом искажении классики. Другая часть хвалила спектакль. О Мормоненко-Александрове я знал, по рассказам товарищей, лишь то, что он участвовал в постановке и в процессе исполнения роля ходил по натянутой проволоке. Это был один из аттракционов, введенных Эйзенштейном в спектакль. Оператор Тиссэ, рассказывая мне об этом, подчеркивал, что проволока была протянута над головами зрителей и что несколько дней тому назад Александров чуть-чуть не был убит этой сорвавшейся во время спектакля проволокой. В тот вечер Тиссэ находился в театре и сам видел, как проволока лопнула и тяжелая металлическая стойка со званом упала. Тиссэ не был ею задет, но стул, стоявший рядом с ним, разлетелся вдребезги. Обо всем этом я вспомнил, увидев пришедших ко мне товарищей. Я спросил о цели их посещения.