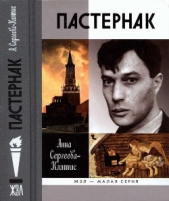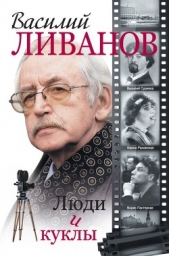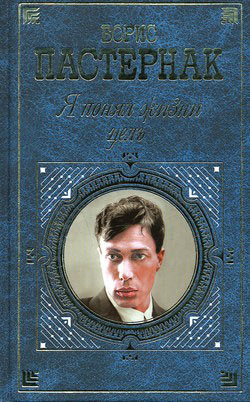Годы с Пастернаком и без него

Годы с Пастернаком и без него читать книгу онлайн
Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»
В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе «Парижские этюды» И. Емельяновой и фрагменты из ее «Записных книжек».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так в пьесе должен рассуждать крепостной актер Агафонов.
Б.Л. часто повторял, что сейчас неважно, хорошо или плохо он напишет пьесу:
— Я пишу для себя, как роман; меня привлекло это время: неволя и вместе с тем — где-то близкое освобождение; и на фоне этого судьба художника-актера, на том рубеже, где кончается крепостное право и начинается другая жизнь.
Рядом с актером Б.Л. задумал домашнего учителя, будущего народовольца; в пьесе должно было отразиться время, судьбы и события (например, покушение на Александра II) и судьба большой любви.
Однако для пьесы требовалось много времени, а переписка едва ли не со всем светом встала ей поперек дороги.
Иногда он по-детски вздыхал:
— Если б можно было проснуться и увидеть пьесу написанной…
Когда его спрашивали: в каком состоянии находится пьеса? — он отвечал:
— Перед тем как оклеивать стены обоями, их оклеивают газетами. Сейчас пьеса — это газетный слой.
Написаны были тогда только пролог и третья-четвертая картины первого действия. Это 169 больших листов, написанных фиолетовыми чернилами (Б.Л. больше всего любил писать простым карандашом, и даже не карандашом, а маленьким огрызочком, ну в крайнем случае школьным пером № 86; авторучек не признавал вовсе).
Борису Зайцеву в Париж четвертого октября шестьдесят девятого года:
«Пожелайте мне, чтобы ничто не предвиденное извне не помешало ходу и, еще отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким подходил я к мысли о пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становится заветным желанием или делается страстью. Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет устоявшимся и надежным. И никак нельзя по-другому ни жить, ни думать».
Жаклин де Пруайяр в Париж двадцать второго декабря пятьдесят девятого года:
«Если бы я только мог довести до конца драму. Я валюсь с ног под увеличивающейся тяжестью вещей и дел, которые так часто мешают работать. Все это, все эти духовные связи с целым миром, пришло так поздно…»
Примерно в те же дни в деловом письме, связанном с улаживанием сложных отношений между Пастернаком и его итальянским и французским издателями, я писала Джанджакомо Фельтринелли:
«Теперь сообщу Вам нечто приятное. Я все время относилась недоверчиво к новой работе Б.Л., к пьесе из времен крепостного права в России. Во-первых, я думала, что Б.Л. будет ограничивать жанр, потом пугал материал. А вот теперь скажу Вам с уверенностью, что новая пьеса будет произведением, так же связанным с его судьбой и художественной сущностью, как был роман. Пока — это драматическое динамическое яркое повествование, из которого будет выкроена пьеса для театра. Язык колоритный, каждое слово играет, положения острые, сценичные. Все это для меня — первой его слушательницы — было такой неожиданностью и подарком. Собственно, до окончания ему два месяца работы. Поэтому ему должна быть предоставлена возможность посвятить себя целиком этой работе и не стоит мешать ему деловыми спорами».
И чуть раньше в письме к Серджио Д’Анджело:
«Б. читал мне куски пьесы. Я рада сообщить Вам, что жанр его нисколько не стеснил, есть в ней места совершенно изумительные — где его талант во всю силу, слушала я с раскрытым ртом и неослабным вниманием. Моего ослепления тут нет — я совершенно в пьесу не верила и даже боялась…»
Я не знала, что до начала смертельной болезни оставались дни, до смерти — три месяца.
Двадцать седьмого апреля шестидесятого года утром Б.Л. писал мне в записке:
«Меня очень интересует то правдивое и здравое, что вы (ты, Ира, Кома, Костя) думаете о недоработанной половине пьесы… Там так много неестественной болтовни, которая ждет устранения или переделки…»
И уже совсем больной, пятого мая, он снова беспокоился о пьесе:
«Все, что у меня или во мне было лучшего, я сообщаю или пересылаю тебе: рукопись, пьесы, теперь диплом [30]. Прошейте, пожалуйста, тетрадь с пьесой. Как бы при чтении не разрознили выпадающих страниц».
«Что меня мучает, что грызет мое сердце, — писал Б.Л. Ренате еще 15 июня 1959 года, — что я в отношении к О.В. и к тебе… получаю все от вас и пользуюсь всем. Но единственное, чем я мог бы вас отблагодарить и чем вам ответить — это новая работа, а она идет так медленно, так лениво, я недостоин вас обеих; но работа уже живет, я верю в нее…»
Наступил последний в жизни Б.Л., тысяча девятьсот шестидесятый год.
Жизнь шла, казалось, по-прежнему. По делам я ездила в Москву, а когда возвращалась, Б.Л. также встречал меня, прогуливаясь по шоссе у нашего домика, а иногда приходил сразу после того, как я, входя, закрывала за собой дверь и начинала растапливать печку.
В воскресенье мы иногда выходили на лыжную прогулку, конечно без Бори; а затем у нас был обычно обед, сходились близкие люди. Из московских знакомых бывал Костя Богатырев, приходили из соседней дачи мама с Сергеем Степановичем, иногда приезжали Гейнц, Жорж, Ирина; Боря за столом был по-прежнему оживленным и веселым.
В среду, десятого февраля, Б.Л. исполнилось семьдесят лет. Удивительно — каким он был молодым, стройным в этом возрасте: всегда с блестящими глазами, всегда увлеченный, по-детски безрассудный.
Все, кто знали Б.Л., поражались его вечной, до самого смертного часа, молодости. Вспоминая о своем знакомстве с Б.Л., Люся Попова рассказывает:
«Он произвел на меня поразительное впечатление тем, что ничем не противоречил ожидаемому облику и в то же время был каким-то совсем невероятным, совсем из ряда вон. Такого, казалось бы, и представить себе невозможно, и все же он был как раз такой, как должен был быть по ожиданию моей души. И такой молодой. Господи, какой он был всегда молодой! До самой смерти он был молодым. Потом, когда я познакомилась с ним ближе, я видела его не только на публике, „в ударе“… Видела и нездоровым, и расстроенным, и утомленным, и даже отчаявшимся, но никогда он не глядел стариком…»
Я помню, как в это утро семидесятилетия мы выпили коньяку, как жарко мы целовались у трещащей печки и как, со вздохом, глядя на свое прекрасное лицо в зеркале, он сказал:
— А все-таки поздно все пришло ко мне! И как мы вдвоем, Лелюша, вышли из всех неприятностей. И все счастливо! И так бы всегда жить. Стыжусь только этих поликарповских писем. Жалко, что ты заставила меня подписать их.
Я возмутилась — как он скоро забыл смертельные наши волнения!
Он сказал:
— Сознайся, ведь мы из вежливости испугались!
С наслаждением вместе со мной читал в нашей избушке на горке поздравления со всего мира. Рассматривал подарки: сувениры из марбургской глины, скульптурку Лары, свечечки и немецкие прозрачные иконки.
Многие подарки, которыми почтили Б.Л. в день его семидесятилетия, долго еще хранились после его смерти у Иры. Например, кожаный будильничек, присланный Неру, глиняные горшочки из Марбурга, того самого, незабываемого города первой любви. Сохранилась записка Б.Л.:
«Горшочки эти от владелицы бензоколонки в Марбурге г-жи Бекер, а красное, сердцевидное — это свечка от Р. Швейцер, которую надо будет когда-нибудь Ирочке зажечь, когда для этого будет случай».
Незадолго до того (в середине декабря пятьдесят девятого года) в Москву приехал Гамбургский немецкий драматический театр под руководством Густава Грюндгенса. Борис Леонидович, желая принять у себя на даче основной состав труппы театра, послал Гейнцу Шеве письмо (оригинал написан по-немецки):
«Дорогой господин Шеве, я убедительно прошу Вас не отказать нам в том, о чем Вас попросит О.В. [31] Если Вы еще раз увидите дам и господ из Гамбургского театра, я хочу уточнить мое желание принять их у себя на даче, в Переделкино. Для меня было бы лучше всего, если бы во время их пребывания в Москве у них оказалось бы свободное воскресенье. Только пригласил я их к слишком позднему часу, а именно — примерно к трем часам дня. Я забыл, как много существенного и захватывающего мы должны будем обсудить. Теперь я желал бы просить их к себе в два или даже в час дня. Если у них не окажется такого воскресенья, это может быть любой другой день, какой им подойдет. В крайнем случае это может быть и ночью, после представления. В любом случае меня следует заранее своевременно известить. Переводчица из министерства в театре знает Константина Петровича Богатырева, В-1–77–61, который мог бы (если в аппарате театра нет другого средства меня обо всем уведомить) послужить связующей нитью. Это могли бы быть 10–12 главных действующих лиц постановки, великолепный Грюндгенс мог бы определить, какие именно. Помимо милой Эллы Бюхи, что само собой понятно, пусть окажут мне честь Фр. Бессель Гебель и превосходный Вагнер — господин Ловитц.
На этом я прощаюсь с Вами, дорогой друг. Не откажите передать Вашей матушке выражение моего высокого уважения и наилучшие пожелания к Рождеству и новогодним праздникам. Счастливого путешествия. Желаю Вам провести полноценные, ничем и никем не потревоженные и не омраченные зимние каникулы с пользой и радостью.