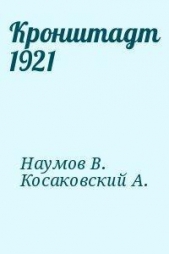Год рождения 1921

Год рождения 1921 читать книгу онлайн
Книга «Год рождения 1921» написана в жанре военной мемуаристики и представляет собой воспоминания представителей того поколения, на плечи которого легла основная тяжесть Великой Отечественной войны, прошедших через самые суровые ее испытания от первого до последнего дня. Книга продолжает традиции писателей-фронтовиков – М.Шолохова, К.Симонова, В.Быкова, В.Астафьева и других, суть которых – показ судьбы человека в годы военного лихолетья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Немец поставил меня на краю пропасти и ушел. Я тут стоял с полчаса. Думал: «Может, лучше броситься вниз и покончить со всем».
Потом инженер крикнул снизу: «Комм!» Я спустился к нему в карьер. Он отвел меня на место и приказал Вилли не выпускать меня хоть всю ночь, если я не выполню норму.
Инженер ушел. Тут я решился. Выдернул у вагонетки тормоз и сунул руку под колесо. Вагонетка медленно сдвинулась и переехала пальцы.
Крайняя фаланга указательного пальца осталась на рельсе. Остальные были – сплошное мясо. Я туго замотал покалеченную кисть полотенцем, зажал ее подмышку. Работать не могу. Стою, согнувшись, около вагонетки. Мимо прошел Вилли, взглянул с сочувствием. Так я простоял часа полтора, до конца работы. Полотенце пропиталось кровью.
Робко пристроился к своей команде, когда ее выводили из карьера. Вилли меня не выгнал и отвел вместе со всеми в барак. Там, перед самым карцером, говорю Ивану:
– Беги к Володе, скажи: «Виктор покалечился».
Пришел Володя в барак:
– Ну, ты и разворотил. Надо было один палец и на левой руке, а ты – всей правой.
Взял ножницы: «Терпи», – и стал обрезать лохмотья мяса. Я потерял сознанье. Он мне сделал какой-то укол, перевязал руку, и я пришел в себя.
В сапоге у меня хлюпало. Я вылил чуть не полсапога крови и отправился в карцер. Там меня сильно зазнобило. Чувствую, теряю сознание. Говорю Ивану: «Стучи, зови Володю». Пришел Володя, поставил градусник – 38,6. Рука опухла. Мочусь в парашу – моча кровяная. Володя покачал головой: «Терпи до утра». Дал две таблетки аспирина. Приходит утром, щупает: «Ага! Не хотел тебе говорить, боялся – гангрена. Но, вроде, обошлось. Видишь, опухоль стала спадать. Это – воспаление».
Он перевел меня в санчасть. Здесь кормили, как всех, но на работу не гоняли. Это было начало лета 44-го года. Через неделю Володя сообщает: «Все – в шахматы мы с тобой отыграли. Уговорил отправить тебя лечиться в Нордхорн».
Володя, оказывается, дня три уговаривал коменданта, тот все не соглашался: «Вылечим здесь – пусть поработает».
Наконец, комендант махнул рукой, и меня отправили в Нордхорн. Об Иване я больше не знаю ничего.
Нордхорн был лагерем тысячи на три для больных и калек, которых свозили со всего Рура. Иной раз пишут и показывают в кино, что немцы калек-пленных пристреливали.
Я такой литературе не верю. Честно говорю, особой грубости или жестокости со стороны немцев я не встречал. Им как-то было не до нас.
Жестокими, быть может, вспоминаются только садист-инженер на каменоломнях и комендант Нордхорна. Он ходил с овчаркой: «Фасс!» – и та кидается на человека.
Лагерь стоял в трех-пяти километрах от голландской границы на голых торфяных полях, на месте бывших торфоразработок.

Прямоугольник, огороженный колючей проволокой, по углам вышки. Два ряда по двадцать бараков. В одном ряду – калеки, в другом – туберкулезники. Как и везде, внешняя охрана немецкая, внутренняя полиция – свои. Русские врачи лечили и делали перевязки. В бараке жило человек по сто. Спали друг над другом на двухэтажных нарах, на тюфяках с соломой или стружками. Ходили – в чем нас привезли, в списанной немецкой военной одежде. На спине знак «SU».
После подъема к каждому бараку подъезжала кухня. К ней выстраивались каждый со своим котелком. Стандартная по всему плену баланда, двести граммов хлеба с кусочком маргарина. Хлеб с кукурузой, ячменем. Нормальным хлебом не кормили ни в одном лагере. Обед, ужин, отбой… Кормежка полуголодная, но лучше, чем в обычных лагерях. Работ никаких. Только из наших «увечных» бараков брали кого покрепче хоронить туберкулезников. В день умирало два-три человека. Их заворачивали рулоном в специальную красную бумагу, относили на поля и зарывали в одном месте. Захоронения не отмечали никак.
Между кормежками мы слонялись по территории, играли в самодельные карты и шахматы.
Потихоньку я узнал, что у пленных есть подпольная организация со своей агентурной сетью. Со мной поговорили: как попал в плен, как бегал. Приняли в организацию. Ей руководил, как он говорил о себе, старший лейтенант Иван. Незаметный мужичишка, русый, плотный. Хромал на одну ногу: у него была отбита пятка.
Планировалось разоружить охрану и бежать в Голландию: там отношение к пленным у населения было другое.
Но все изменилось. В наш лагерь прислали человек триста штрафников из власовской армии. Настроены яро антисоветски, в большинстве – украинцы. Все здоровые, упитанные по сравнению с нами, доходягами. Ходят в папахах, наглые, с немецкими наградами. Хвастают заслугами перед немцами, рассказывают, как в Крыму вырезали целые селения. Особенно выделялся один майор-летчик. Он жил как раз в нашем бараке. Расписывал свои похождения, показывал орден Красного знамени, который получил еще в Красной Армии, хвалился, как перелетел к немцам.
Власовцы попытались взять в лагере верх. Идет высокомерно такой в папахе, встретит калеку – походя ударит…
Иван собрал нас. Сказал: «Надо положить этому конец. Ликвидировать главарей у этой шатии». Сказал: «Ребята, надо душить. Куда деть – моя забота».
Власовцы были распределены по десять-пятнадцать на барак. В каждом бараке было человек десять-пятнадцать из организации. В нашем решили душить трех. Отрядили по три-четыре на каждого. Я был тогда дохлый, и меня поставили у двери, чтобы никто из барака не выскочил. Шел уже октябрь месяц, у двери топилась торфом железная печь. В топку сунули оружие для меня – железный прут.
С отбоем погас свет. Темнота. По бараку бегают блики от печки. Часов в одиннадцать в этой темноте раздался голос:
– Внимание! Должна быть полнейшая тишина. Кто закричит или попытается встать – будет убит.
Тишина воцарилась мертвая. Потом поднялась возня, сломались с хрустом нары. Кто-то кинулся к двери – я его ударил раскаленным прутом. Он шмыгнул обратно под нары – я ему добавил по заду.
Двух смертников придушили быстро, а летчик лежал на верхней полке и был такой здоровый, что отбился и спрыгнул с нар. Его поймали, захлестнули веревку вокруг шеи и закрутили веревку палкой. Когда рассвело, я посмотрел: лежит – синий, синий.
Утром пришли с носилками санитары и унесли всех троих закапывать как туберкулезников.
Как я сейчас понимаю, вся лагерная обслуга: полиция, переводчики, врачи были у Ивана в руках. Шел конец войны, те хотели реабилитироваться. Полицейские уже не били и не кричали. Придут: «Ребята, пора спать. Комендант недоволен».
Утром лагерная уборная была усеяна порванными документами, фотокарточками, немецкими наградами. Началась стихийная расправа со всеми, кто кого обидел или оскорбил. Как сейчас вижу, в умывальной двоих на полу топчут ногами. Один потерял сознание. Его сунули головой под воду и потом втроем с размаху об цементный пол задницей. У того и язык по пояс вывалился. В нашем бараке троих задушили и забили человек шесть.
После этого побоища уцелевшие власовцы притихли, папахи пропали, порванные документы валялись повсюду.
Немцы обо всем этом ничего не узнали. Внутренняя территория была отгорожена от наружного забора низкой колючей оградой. За нее не выскочишь, не пожалуешься. А по главной лагерной аллее ходит Иванова внутренняя полиция с палками. Иногда только по ней важно проходил комендант с овчаркой.
В Нордхорне я пробыл месяца три. В ноябре к лагерю стали подходить англичане, и нас спешно эвакуировали. Калек разослали по разным работам. Что стало с туберкулезниками – не знаю. Меня в группе человек тридцать с двумя конвоирами отправили на сахарный завод в небольшой городок Линдген, юго-восточнее Нордхорна.