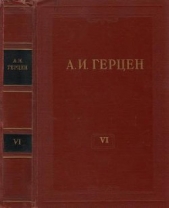С того берега
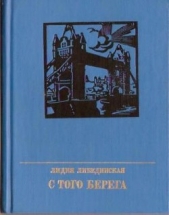
С того берега читать книгу онлайн
В жизни ушедших, и особенно ушедших давно, мы всегда ищем и находим цельность и замысел. Однако на самом деле человеческая судьба не только движется по прихотливой кривой, не только дробится на множество периодов, нередко противоречащих один другому, но даже сама кажущаяся цельность представляется разному глазу неодинаковой в зависимости от точки зрения.
Николай Платонович Огарев, незаурядный русский поэт и знаменитый революционер, не похож ни на его хрестоматийно сложившийся облик, ни на ту личность, что рисуется из статей врагов (предостаточно их было у него, как у всякого яркого человека), ни на тот сусальный, некрологически непогрешимый портрет, что проглядывает из ученых трактатов. Был он весьма разноликим, как все смертные, сложным и переменчивым. Много в нем верности и доброты, причем последнего чересчур. То и другое причиняло ему множество мелких бед и крупных несчастий, но они не только не сломили его, но даже не притупили два этих главных свойства. Верность и доброта сопутствовали ему до смерти. Что ж до цельности жизни, то на самом-то деле постоянно и неизменно испытывал он острые и глубокие терзания от естественной необходимости выбирать. И кажущаяся цельность судьбы — просто цельность натуры, всякий раз совершающей выбор, органичный душе и мировоззрению. Он никогда не лгал и делал выбор с глазами открытыми, всегда сам, кап и подобает свободному человеку, отчего и казался зачастую гибким и пластичным своим современникам, а подчас и весьма странным. Жил он в очень трудное время — но бывают ли времена легкие? Окружали его яркие и своеобычные люди. Нескольких современников его, знакомых с ним или незнакомых, нам никак не миновать, ибо нельзя восстановить облик человека вне той эпохи, в которую он жил, а эпоха — это люди, наполнявшие ее и ею наполненные. Люди, строившие свою судьбу и каждый раз делавшие свой выбор. Оттого, быть может, галерея современников часто больше говорит о человеке, нежели самое подробное описание его собственной жизни. К счастью, осталось много писем. И воспоминаний полным-полно. И архивы, где хранятся не только документы, но и труды, не увидевшие света в свое время. А что до любви к герою — сказать о ней должна сама книга.
Это книга об очень счастливом человеке. Больном эпилепсией, не раз обманувшемся в любви, об изгнаннике, более всего на свете любившем родину, человеке, который осмелился дерзнуть и добился права быть всегда самим собой.
Родился он в тринадцатом году прошлого века 24 ноября по старому стилю, в городе Санкт-Петербурге — упомянем об этом здесь, чтобы сразу же обратиться к его молодости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вперемежку и вместе говорили все это Кельсиеву Герцен и Огарев, а он отвечал спокойно, рассудительно и несколько неожиданно, что ищет правды, справедливости и покоя в беззаветном служении. И что, именно будучи русским человеком, последователен и тверд в этих поисках, как всегда были последовательны русские люди, отчего до крайности и доходили. Из самой истории это видно. Вот хотя бы великий князь Владимир: начал, как известно, с братоубийства, а раскаявшись, уже настолько всякое убийство отвергал, что прощал и не казнил разбойников, несмотря на лихое время. Или Илья Муромец, настоящий народный герой: тридцать три года сидел сиднем, а как понял, что сила есть, стал немедленно думать, где у земли кольцо ввинчено, чтобы ее своротить, мать сыру землю, а также где от неба столб опорный, чтобы и его порушить.
— Или вот старуха, например, — тихо сказал Огарев, — начала с какой мелочи, заметьте, а дошла до желания стать морской царевной и владычицей золотой рыбки.
Герцен одобрительно захохотал, а Кельсиев даже не улыбнулся.
— Что же, я готов, как она, кончить у разбитого корыта, но попробовать, сколько можно, хочу!
— Все это бесполезно здесь, — так убежденно сказал Герцен, что даже Огарев искоса и быстро глянул на него. — Да, да, да, бесполезно, я повторяю. Мы бьемся, изнемогая, чтобы сокрушить мелочи, которые до нас доходят. Мы кипим и советуем, а решатся в конце концов все центральные и узловые вопросы только дома.
— Ах, ты об этом, — негромко сказал Огарев. — Тут ты прав, разумеется, а я уж было насторожился, думал, ты от плохого настроения всю нашу жизнь зачеркнешь второпях. Все-таки наша каторга имеет какой-то смысл.
— Ты в этом всегда уверен? — спросил вдруг Герцен сумрачно.
Огарев рассмеялся, далеко закидывая голову.
— Саша, — сказал он, — Саша, мы ведь сейчас не свои болячки зализываем и не свои сомнения обсуждаем. Вон у тебя на столе какая груда писем, и небось у меня по твоему указанию половина сложена. Грех нам жаловаться, что с Россией обоюдонужной связи нет. Только это никак не зачеркивает все, что мы вам говорили. — Он посмотрел на Кельсиева приветливо.
Кельсиев доверчиво улыбнулся в ответ и, с лица улыбку не сгоняя, отрицательно покачал головой.
Еще долго говорили они, но переубедить его не удавалось. Они были искренни в своем желании уберечь его от болезненного жжения, неизбывного у обоих, всей душой и естеством принадлежавших России. А он этого по молодости не чувствовал и не открывал им своей главной мысли, что отсюда мнились ему слава и величие грядущих свершений.
Одно было ясно и Огареву и Герцену, что надо будет кормить и определять этого молодого решительного мужчину. И ушел он в тот день от них, снабженный деньгами, с договоренностью насчет уроков, которые он будет давать дочери Герцена, и с уговором принести статью на тему, какую пожелает.
Очень скоро нашлась ему работа: перевести на русский язык Библию. Перевод Пятикнижия сделал он охотно, хоть перевод и не получился. Кельсиев задался целью перевести буквально, отчего текст был тяжел и темен. Надо, впрочем, сказать, что лондонское предприятие вскорости побудило российский Синод распорядиться о переводе, и наконец в России впервые появилась Библия на русском языке.
Кельсиев и статью принес — об освобождении и раскрепощении женщины. И была эта статья так плоха, так витиевато написана, так прямолинейна и неубедительна, что, когда Герцен решительно ее забраковал, добряк Огарев, смущаясь и отводя глаза в сторону, полностью согласился с его мнением. Кельсиев обиделся, упал духом, прямо на глазах увял, и тогда, чтоб его подбодрить (все равно ведь надо было давать работу!), Герцен попросил его разобрать тот огромный мешок корреспонденции, куда складывали они все письма, относящиеся к раскольникам, ибо руки до них покуда не доходили.
Нехотя согласился Кельсиев, хмуро попрощался и ушел, неловко за собой приволакивая тяжелый этот мешок. Два дня он не появлялся, очередной урок пропустил, и уже хотели было за ним посылать, как вдруг он сам появился утром, вдохновенный и сияющий.
Мир российского старообрядчества и раскола, открывшийся ему в этой связке неразобранных рукописей и писем, — это был его, органически его мир, в который он почувствовал готовность незамедлительно окунуться с головой. Мир замкнутый, фанатичный, романтический, озаренный духовностью жаркого разномыслия. Мир таинственный, сумрачный, глубокий, насыщенный раздирающими страстями разума, души и плоти, несгибаемый и уклончивый. Громадный, чисто русский по живучести и упорству. Стоило посвятить жизнь его изучению, а потом, возможно, и объединению. Материалы же разобрать и напечатать.
Скоро Кельсиев сделался своим человеком в доме Герцена и Огарева, бывал у них чуть не ежедневно, просиживал часами, часто и работал там, присматриваясь с удивлением и непониманием к этим двум столь непохожим людям.
Да, они были старше Кельсиева чуть не вдвое, но не в возрасте крылись корни его непонимания. Да никто из них в долгих и постоянных спорах обо всем на свете не ссылался на возраст как на критерий зрелости ума и мысли. С Огаревым, впрочем, спорили только о России, ибо всех европейских дел для него словно и не существовало. Огарев Кельсиеву был особенно непонятен. И, как все самолюбивые и самоуверенные люди, Кельсиев даже слегка невзлюбил его за это. Например, его крайне изумляла та подчеркнутость своей роли как второй, о которой Огарев не забывал ни разу и ни при каких обстоятельствах. Он-то, Кельсиев, отчетливо видел, как Герцен абсолютно во всем советуется с Огаревым, как порой негодует, выходит из себя и оспаривает его мнение, а потом уступает, соглашается, идет на попятную, ищет приемлемой середины. И снова советуется с Огаревым. При этом Огарев то ли в шутку, то ли всерьез называет Герцена в разговорах принципалом, патроном, шефом, в свою очередь утрясая или обговаривая с ним все проблемы. Кельсиев бы так никогда не смог. И поэтому не понимал. Себя с другими сопоставляя, измеряет человек качества, понятные ему самому, а о мудрости любящей доброты Кельсиеву задумываться не приходилось. Спустя недолгое время сказал ему о том же в случайном разговоре Бакунин.
— Николай с его полным отсутствием тщеславия и властолюбия, — говорил Бакунин, — страшно обманывает всех кажущейся мягкостью. Он любому предоставляет играть во все, что тому заблагорассудится, — хоть в Сократы, хоть в Наполеоны. А не приведи господь переиграть и чего-нибудь от Огарева потребовать, что противно его воззрениям, — раз, и лбом об камень. Да откуда же камню было взяться? Трешь ушибленное место, и опять перед тобой будто бы творог. Странное и обманчивое это дело, русские добряки с чуткой совестью.
И захохотал оглушительно, всему на свете радуясь, а всего пуще — любым своим словам и мыслям, что немало Кельсиева раздражало.
2
Бакунин появился в Лондоне вдруг, внезапно, из того далекого далека, где попадающие туда люди в живых уже не числятся. Надо было быть Мишелем Бакуниным, чтобы на такое решиться, да притом с блеском выполнить задуманное.
Позади годы и поступки, ставшие уже легендарными и оттого обросшие выдумкой, хоть и правда была достаточно впечатляющей.
Окончательно порвав с Россией, обреченный на каторгу в случае возвращения, Бакунин окунулся в европейское революционное брожение сороковых годов, произнося при этом одну за другой речи, каждая из которых заслуживала каторги.
Вскоре наступило время практических действий, и Бакунин ринулся в них с головой. Разразилась французская революция. Бакунин немедленно оказался в Париже. Речи, собрания, сходки, процессии, демонстрации — всюду появлялся он и всюду успевал. Решительно и вмиг оставил Париж, услышав о революции в Австрии. Это все-таки ближе к России, и, быть может, волна занесет его туда! Арест в Берлине (отпустили), восстание в Праге (было подавлено), перемена городов, метания (уже числится злейшим врагом российского самодержавия и опаснейшим европейским смутьяном), наконец, Дрезденское восстание, неудачливое и слабое, бегство, арест, тюрьмы Саксониии Австрии. Арестованный с оружием в руках при отступлении из Дрездена, Бакунин считался самым опасным из революционеров, а на прогулку его выводили закованным в цепи. Одиночная камера, допросы, ожидание неминуемого смертного приговора. Приговор вынесен, следует помилование, срок заключения — пожизненный. Затем передача его в Австрию, новое следствие, снова смертный приговор, снова помилование, ибо решено вернуть его России. Все совершается в глубочайшей тайне и с огромными предосторожностями, ибо есть подозрение, что за Бакуниным целая партия заговорщиков, вооруженных до зубов, иначе трудно объяснить невозмутимое спокойствие этого неугомонного славянина. Передают Бакунина на границе, австрийский офицер педантично требует вернуть австрийские цепи, и Бакунина заковывают в русские. Петербург, Алексеевский равелин.