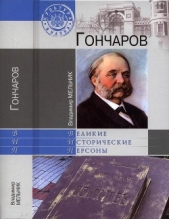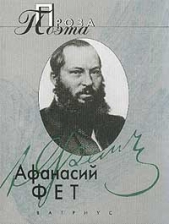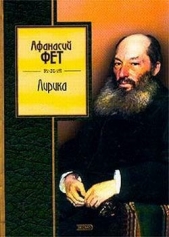Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
В книгу «Воспоминания» вошли мемуары А.А. Фета («Ранние годы моей жизни» и «Мои воспоминания»), которые рисуют яркую картину русской жизни на протяжении почти шести десятилетий и представляют собой источник для изучения жизненного и творческого пути А.А. Фета (1820–1892).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Видя, что человек и одет-то бедно, — говорил Грановский, — я решился быть до крайности снисходительным и подумал: бог с ним, пусть получит кусок хлеба. Что бы спросить полегче? — подумал я. Да и говорю: не можете ли мне что-нибудь сказать о Петре? — Петр, — заговорил он, — был великий государь, великий полководец и великий законодатель. — Не можете ли указать на какое-либо из его деяний? — Петр разбил, — был ответ. — Не можете ли сказать, кого он разбил при Полтаве? Он подумал, подумал и сказал: Батыя. Я удивился. — Кто же, по вашему мнению, был Батый? Он подумал, подумал и сказал: Протестант. — Мне остается спросить вас: что такое, по вашему мнению, протестант? — Всякий, не исповедующий православную греко-российскую церковь. — Извините, — сказал я, — я не могу поставить вам больше единицы. — Если вы недовольны и таким знанием, — сказал он уходя, — то я и не знаю, чего вы требуете».
Помню, что однажды у Павловых я встретил весьма благообразного иностранного немецкого графа, который, вероятно, узнав, что я говорю по-немецки, невзирая на свои почтенные лета, подсел ко мне и с видимым удовольствием стал на чужбине говорить о родной литературе. Услыхав мои восторженные отзывы о Шиллере, граф сказал: «Вполне понимаю ваш восторг, молодой человек, но вспомните мои слова: придет время, когда Шиллер уже не будет удовлетворять вас, и предметом неизменного удивления и наслаждения станет Гете». Сколько раз пришлось мне вспоминать эти слова.
Однажды, сходя к лекции, Шевырев сказал мне на лестнице: «Михаил Петрович готовит вам подарок». А так как Степан Петрович не сказал, в чем заключается подарок, то я находился в большом недоумении, пока через несколько дней не получил желтого билета на журнал «Москвитянин». На обороте рукою Погодина было написано: «Талантливому сотруднику от журналиста; а студент берегись! пощады не будет, разве взыскание сугубое по мере талантов полученных. Погодин».
В числе посетителей нашего григорьевского верха появился весьма любезный правовед Калайдович [125], сын покойного профессора и издателя песен Кирши Данилова [126]. Молодой Калайдович не только оказывал горячее сочувствие моим стихам, но, к немалому моему удовольствию, ввел меня в свое небольшое семейство, проживавшее в собственном доме на Плющихе. Семейство Калайдовичей состояло из добрейшей старушки матери, прелестной дочери, сестры Калайдовича, и двоюродного его брата, исполнявшего в доме роль хозяина, так как сам Калайдович, кончив курс школы правоведения, поступил на службу в Петербурге и у матери проводил только весьма короткое время. Старушка так полюбила и приласкала меня, что по отъезде сына я нередко просиживал вечера в их уютном домике. Чтобы не сидеть сложа руки, мы раскидывали ломберный столик и садились играть в преферанс по микроскопической игре, несмотря на мою совершенную неспособность к картам. Через молодого Калайдовича я познакомился с его друзьями: Константином и Иваном Аксаковыми [127]. Однажды, начитавшись песен Кирши Данилова, я придумал под них подделаться, и мы с Калайдовичем решили ввести в заблуждение любителей и знатоков русской старины братьев Аксаковых. Отыскав между бумагами покойного отца чистый полулист, Калайдович постарался подделаться под руку покойного, передал рукопись Константину Сергеевичу, сказав, что нашел ее в бумагах отца, но желал бы знать, можно ли довериться ее подлинности. В следующий мой приход я с восхищением услыхал, что Аксаков, прочитав песню, сказал: «Очень может быть, очень может быть; надо хорошенько ее разобрать». Но, кажется, в следующее затем свидание Калайдович расхохотался и тем положил конец нашей затее.
Но никакие литературные успехи не могли унять душевного волнения, возраставшего по мере приближения весны [128], Святой недели и экзаменов. Не буду говорить о корпоративном изучении разных предметов, как, например, статистики, причем мы, студенты, сойдясь у кого-либо на квартире, ложились на пол втроем или четвером вокруг разостланной громадной карты, по которой воочию следили за статистическими фигурами известных произведений страны, обозначенными в лекциях Чивилева.
Но вот начались и самые экзамены, и сдавались мною один за другим весьма успешно, хотя и с возрастающим чувством томительного страха перед греческим языком. Мучительное предчувствие меня не обмануло, и в то время, когда Ап. Григорьев радостный принес из университета своим старикам известие, что кончил курс первым кандидатом, я, получив единицу у Гофмана из греческого языка, остался на третьем курсе еще на год.
Дома более или менее успешно я свалил вину на несправедливость Гофмана; но внутренно должен был сознаться, что Гофман совершенно прав в своей отметке, и это сознание, подобно тайной ране, не переставало ныть в моей груди. Впрочем, сердечная дружба и нравственная развитость сестры Лины во многих отношениях облегчала и озаряла на этот раз мое пребывание в деревне. Переполненный вдохновлявшими нас с Григорьевым мелодиями опер, преимущественно «Роберта», я был очень рад встретить прекрасную музыкальную память и приятное сопрано у Лины, и бедная больная мать в дни, когда недуг позволял ей вставать с постели, изумлялась, что мы с сестрою, никогда не жившие вместе, так часто певали в два голоса одно и то же.
Хотя, как я уже говорил выше, Лина пользовалась в семействе, начиная с нашего отца, самым радушным сочувствием, тем не менее привычка к безусловной свободе, очевидно, брала верх, и она объявила, что возвращается в Дармштадт. Самый отъезд, как я помню, состоялся в начале августа, когда в прекрасном новосельском фруктовом саду поспели все плоды и, между прочим, крупные груши под названием «bon Chretien», не уступавшие иностранным «дюшес», хотя росли на открытом воздухе. Не помню, ходили ли тогда по только что устроенному шоссе дилижансы из Орла в Москву. Полагаю, что их еще не было, и не могу припомнить, в чем или с кем Лина проехала из Мценска до Москвы. Понятно, с каким чувством больная мать навсегда расставалась со старшей дочерью; мы все были взволнованны и растроганны. В минуту последних объятий все были изумлены неожиданным возгласом отца: «Что же это такое! все плачут!» С этими словами невозмутимый старик, которого никто не видал плачущим, зарыдал.
— Каков папа! — восклицала дорогою в карете Лина, обращаясь ко мне. — Я никак не ожидала от него таких дорогих для меня слез.
Это не помешало самовольной девушке развернуть данные ей груши «bon Chretien», которыми отец просил ее похвастаться перед дядей Эрнстом.
— Куда я их повезу более чем в 10-дневном пути? — сказала она, доставая складной дорожный ножик и угощая меня половиною сочной груши.
— Дай мне, — сказала она, — что-нибудь на память из своих вещей, бывших в ближайшем твоем употреблении. — С этими словами она сняла с меня черный шейный платок и спрятала в мешок.
Недели через две я и сам вернулся в Москву
…обычная студенческая жизнь брала свое, невзирая ни на какие потрясения и внутренние перемены. К последним принадлежало окончание университетского учения Ап. Григорьевым, продолжавшим еще проживать со мною на верху Полянского дома. Освободившись от сидения над тетрадками, Аполлон стал не только чаще бывать в доме Коршей, но и посещать дом профессора Н. И. Крылова и его красавицы жены, урожденной Корш. По привязанности к лучшему своему ученику, Никита Ив. сам не раз приходил к старикам Григорьевым и явно старался выхлопотать Аполлону служебное место, которое бы не отрывало дорогого сына от обожавших его родителей. Как нарочно, секретарь университетского правления Назимов вышел в отставку, и, при влиянии Крылова в совете, едва окончивший курс Григорьев был выбран секретарем правления. Радости стариков не было конца. Зато мне по вечерам нередко приходилось оставаться одному, по причине отлучек Григорьева из дому.