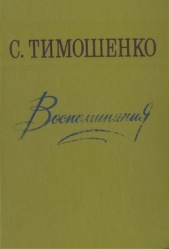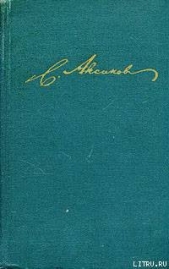Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания
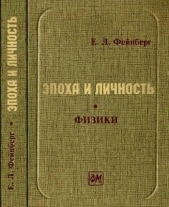
Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания читать книгу онлайн
Книга представляет собой собрание очерков — воспоминаний о некоторых выдающихся отечественных физиках, с которыми автор был в большей или меньшей мере близок на протяжении десятилетий, а также воспоминания о Н. Боре и очерк о В. Гейзенберге. Почти все очерки уже публиковались, однако новое время, открывшиеся архивы дали возможность существенно дополнить их. Само собой получилось, что их объединяет проблема, давшая название сборнику.
Для широкого круга читателей, интересующихся жизнью учёных XX века с его чумой тоталитаризма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
До этого Солженицын однажды был у нас, и мы втроем очень интересно (для нас, по крайней мере) поговорили за обедом. Но я понимаю, что, по-видимому, я обманул его надежды (или ожидания), оказался «не то». И хотя мы расстались вполне дружелюбно и потом еще раз встречались у Игоря Евгеньевича, когда Солженицын пришел к нему со своей первой женой (а Тамм пригласил еще В. Л. Гинзбурга и меня с нашими женами), Солженицын, видимо, разочаровался и в Тамме, а ко мне потерял интерес (правда, когда мы случайно встретились на Белорусском вокзале, был снова вполне доброжелателен).
Мы с женой плохо понимали, какой должна быть процедура встречи. Как бы то ни было, мы решили накрыть в (единственной) большой комнате стол «с угощением». Когда Александр Исаевич увидел это, он более чем недовольно сказал: «Это что же, прием?» Ясно стало, что стиль был выбран нами неправильно. Я проводил его умыться, после чего появился Сахаров с Тамарой Константиновной. Мы с женой и Тамарой Константиновной удалились в маленькую комнату, оставив Сахарова и Солженицына одних за накрытым столом. Но я, тем не менее, чувствовал себя как-то неуверенно.
Я, конечно, понимал, что А. И. пришел сюда только ради встречи с Сахаровым и никто другой ему не нужен. И все же как прошлое общение, так и ощущение хозяина дома (к тому же ведь А. Д. почему-то хотел, чтобы встреча была именно у меня) заставили меня раза два зайти к ним, один раз — принеся чай. Каждый раз, постояв минутку, я чувствовал по настроению А. И., что нужно уйти, и уходил.
Было бы наивно и неверно истолковывать такое поведение Александра Исаевича как просто невежливое или недоброжелательное. Нужно помнить, что в то время он был поглощен, охвачен, одержим своим Делом, и это сочеталось со всепоглощающей целенаправленностью его четких действий (поистине «американская деловитость и русский (контрреволюционный размах»). Все постороннее отметалось.
Я был свидетелем и участником трех его попыток найти себе стоящего союзника среди академических физиков, обладавших привлекательной общественной репутацией. Он встречал с их стороны искреннее восхищение, готовность посодействовать (скажем, перепечатывались на машинке его неизданные «ужасные» произведения), но для него это все было «не то». Теперь же он пришел, чтобы впервые встретиться с человеком из той же среды, но уже совершившим великий поступок, «переступившим порог». Поэтому все остальное было несущественным, могло только помешать.
Они беседовали, сидя рядом, полуобернувшись друг к другу. Александр Исаевич, облокотившись одной рукой на стол, что-то наставительно вдалбливал Андрею Дмитриевичу. Тот произносил отдельные медлительные фразы и по своему обыкновению больше слушал, чем говорил.
Не помню, сколько продолжалась эта беседа, вероятно, часа два. (Согласно Солженицыну — в «Теленке», они просидели «четыре вечерних часа», но здесь же он пишет о своей «дурной двухчасовой критике» сахаровских размышлений; я думаю все же, что длительность беседы была ближе к двум часам; мы, сидя втроем в маленькой комнате, за четыре часа были бы совершенно измучены, а этого не было.) Наконец, они закончили беседу. Мы все вместе еще немного поговорили и «гости» стали — по одному — уходить.
В «Теленке» Солженицын пишет, что эта беседа проходила в не очень хороших условиях, «не всегда давали быть вдвоем», но он был поражен тем, как внимательно и без обиды Сахаров слушал его критику. Солженицын не знал, видимо, как это было характерно вообще для поведения в нашем Теоретическом отделе.
Сахаров с удивлением отмечает, что прежде всего, до разговора, А. И. стал занавешивать окна. Он замечает также, что, по мнению А. И., их встреча осталась не известной КГБ. А. Д. в этом сомневается. В частности, пишет, что почему-то, когда он вышел, на нашей глухой улочке, где и застроена-то лишь одна сторона, стояло такси (Т. К. Хачатурова уверенно считает, что Сахаров запамятовал обстоятельства их ухода: на самом деле по телефону, шнур которого был вначале по желанию Александра Исаевича перерезан, а затем с трудом восстановлен, были вызваны одно за другим два такси. Шофер Сахарова спросил его: «Что это у вас, совещание, что ли, было?»). Я согласен с Сахаровым, я более высокого мнения, чем Солженицын, о профессионализме сотрудников КГБ.
К тому же вспоминаю (возможно, в чем-то неточно), как сам А. И. рассказывал мне до этого: официально живя в Рязани, он много времени проводил в Москве и, чтобы иметь тихое, укромное место для работы, купил в деревне, чуть ли не в 80-ти километрах от Москвы, хибару, куда и скрывался для работы, уверенный, что о нем никто ничего не знает. Но однажды ему принесли с почты письмо без адреса, но с его фамилией. Так что «секретность» его убежища была фиктивной.
Эта встреча двух выдающихся людей нашего времени положила начало их сравнительно недолгим личным контактам. Уже в 1974 г., после вполне корректной, но жесткой сахаровской критики позиции Солженицына, выраженной в его «Письме вождям» (см. журнал «Знамя», 1990 г., №2), наступило, если я правильно понимаю, известное охлаждение при полностью сохранившемся взаимном уважении.
Вообще после публикации «Размышлений» к Сахарову потянулись многие из тех, кто был оппозиционно настроен, не хотел мириться с унижением, бесправием и угнетением, исходившими от невежественных и циничных властителей, кто был готов к участию в героическом правозащитном движении или уже участвовал в нем, «переступил черту». Неизбежно деятельность Сахарова как «социального философа» (за «Размышлением» последовали новые публикации за рубежом, продолжавшие ту же линию) стала дополняться его деятельностью в качестве фактического лидера правозащитного движения. Я помню, как это начало оформляться.
Однажды, в ноябре 1970 г., мы выходили с ним из здания президиума Академии наук, где вместе участвовали в одном совещании. Когда мы шли по двору, обходя огромную клумбу, Сахаров сказал мне, что он с двумя единомышленниками создал группу (это было ровно за неделю до нашего разговора) по проблеме защиты гражданских прав, имеющую целью давать консультации по этому вопросу и разрабатывать его на основе Декларации ООН по правам человека. Стало ясно, что и Сахаров включается в движение, впоследствии получившее название «диссидентского» (сам он не любил это слово, предпочитал говорить «правозащитное»). У нас произошел следующий разговор (он принадлежит к числу тех, которые глубоко врезались в память; о таких случаях я только и говорю здесь):
— Андрей Дмитриевич, скажите, когда, по-вашему, у нас было самое лучшее, самое свободное, демократическое время за прошедшие 50 с лишним лет?
— Можно точно сказать: от XX съезда до венгерских событий (февраль-октябрь 1956 г.).
— Правильно, я тоже так думаю. Что, оно наступило в результате протестов снизу, оппозиционного движения?
— Конечно, нет.
— Андрей Дмитриевич, в России всегда хорошие социальные преобразования осуществлялись сверху: реформы Александра II, НЭП, хрущевская оттепель. Неужели вы думаете, что при существующем безжалостном аппарате подавления можно чего-нибудь добиться?
А. Д. ответил нечто неопределенное, чего я не запомнил, но знаю только, что он убежденно сказал: «Все равно, это нужно делать».
Прошло время, и можно судить, что узко прагматически я был прав: власти сумели за 10-15 лет подавить, разметать это движение, порой применяя исключительную жестокость и полностью пренебрегая возмущением и протестами, которые их действия вызвали во всей неподвластной им части цивилизованного мира. Достигнутые положительные результаты, такие, как создание «Хроники текущих событий», документация о заключении в психушки здоровых людей и т. п., были, конечно, очень важны, но сравнительно с принесенными жертвами — невелики. (Я вообще был невысокого мнения о прагматической ценности подобных действий. Недавний опыт разгрома, учиненного в математике в 1968–1969 гг. (я подробнее пишу об этом ниже, в разделе «Арест и высылка в Горький»), был хорошим примером.)