Пастер
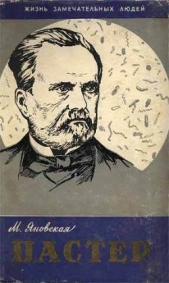
Пастер читать книгу онлайн
Жизнь великого ученого Луи Пастера — одна из самых драматичных в истории мировой науки.
Скромный французский химик, он в результате неслыханного по напряженности труда и борьбы с многочисленными препятствиями стал основателем новой науки — микробиологии.
С большой теплотой и знанием дела писательница рисует поистине героическую жизнь ученого. Наука для Пастера — превыше всего. Цель его жизни — служить человечеству. Шелководы Франции разоряются — на шелковичных червей напал мор. Пастер побеждает болезнь, шелкопряда. Овцы гибнут от сибирской язвы — Пастер приходит на помощь. Умирают люди от укусов бешеных животных — Пастер, рискуя собственной свободой, спасает их.
Рассказ о жизни Пастера — это в то же время рассказ о содружестве двух наук — французской и русской. Автор уделяет много внимания описанию замечательной дружбы Пастера с крупнейшими русскими учеными, работавшими в его институте.
Книга М. Яновской — первая художественная биография великого французского ученого, принадлежащая перу советского автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что же это за госпитальная гангрена? В какой связи стоит она с процессами брожения? И неужели никто до Листера не обратил внимания на эту связь?
То, что гниение ран вызывает ухудшение здоровья и смерть, издавна было известно хирургам. Гнилостное заражение было чрезвычайно распространено. В госпиталях стоял невыносимый запах гниения, такой же запах, какой издает гниющая говядина, тухлые яйца, разлагающийся труп. И уже с очень давних пор сложилось мнение, что гниение и брожение тесно связаны с хирургическими осложнениями ран, что, по всей вероятности, это одно и то же явление, вызываемое одними и теми же причинами. Но какими?
Хирургические палаты были очагами заразы. Раненого человека, у которого всего только был раздроблен палец ноги, клали в госпиталь, и тут он погибал после операции от госпитальной гангрены. Дорога из хирургического госпиталя вела прямо на кладбище.
Страшные строки оставил на память потомкам великий русский хирург Пирогов: «Если я оглянусь на кладбище, где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю, чему больше удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у правительств и общества!»
Чисто эмпирическим путем умные, думающие хирурги пришли к выводу, что они сами и являются разносчиками заразы — их руки, их халаты, их инструменты, перевязочные материалы, самые помещения. Было очевидным, хотя никто не мог тогда доказать этого, что зараза носится где-то в воздухе, что раненые заражаются гангреной уже тут, в госпитале, на операционном столе. Что даже простой укол иглой открывает путь болезни, которую никто не может оборвать и которая ведет к могиле.
Хирургия уперлась в тупик: вместо того чтобы спасать людей, она ускоряла их смерть.
«Миазма, заражая, сама и воспроизводится зараженным организмом. Миазма не есть, подобно яду, пассивный агрегат химически действующих частиц: она есть органическое, способное развиваться и возобновляться», — писал Пирогов, гениально предвидя открытие микробов — возбудителей болезни.
И раз эта «миазма», еще никем не увиденная, никому не ведомая, но такая грозная, не поддается борьбе с ней, значит надо предохранять организм от этих миазм, не давать ему соприкасаться с ними.
В 1830 году другой русский хирург и анатом, И. В. Буяльский, писал: «…предохранительным средством для операторов и акушеров, повивальных бабок, врачей и фельдшеров как при операциях, внутренних осмотрах, при перевязывании ран гангренозных, раковидных, венерических и бешеными животными нанесенных, так при вскрытии мертвых тел является тщательное мытье рук раствором хлорной извести».
Пирогов применял при лечении ран раствор извести, азотнокислое серебро и йодную настойку. В своей Петербургской клинике он выделил особое отделение для больных рожей и гангреной, чтобы предупредить распространение инфекции.
Многие хирурги стали накладывать на раны повязки, чтобы предохранить их от заражения извне. Эти меры снижали смертность, но незначительно и только в очень немногих госпиталях.
Все это были только интуитивные догадки, хирурги шли ощупью в темноте, и только кое-где, как неровный свет фонарика, вдруг ненадолго вспыхивала догадка. И, как свет фонарика, она освещала только очень небольшое пространство, не выходя за пределы данного госпиталя. Высказанная вслух, но ничем не доказанная, всякая подобная догадка встречала отпор маститых ученых, и их протесты сводили на нет все попытки бороться с заразой.
«Миазмы» Пирогова опровергал Либих. С убежденностью, достойной лучшего применения, писал он в своей брошюре, вышедшей в 1852 году: «…некоторые формы разложения и гниения вещества могут передаваться составным частям организма. Придя в соприкосновение с гниющим веществом, составные части органов могут приводиться в состояние, сходное с тем, в котором находилось оно само…» Получающееся таким образом заразное начало, носящее в себе признаки разложения, а не жизни, «может распространяться посредством твердых, жидких или газообразных продуктов, без того, чтобы в нем участвовала какая-либо иная более прямая причина». Никакой прямой причины, никаких «миазмов» и «инфузорий», в природе всегда есть что-нибудь гниющее, которое может передаваться «газообразными, твердыми и жидкими телами». А как, позвольте спросить, бороться с этим? Бороться невозможно потому, что бороться не с чем.
Эта теория Либиха и других вела к обреченности, сводила ни к чему все попытки хирургов так или иначе предохранить от заражения и смерти. По этим теориям выходило, что в раненом организме заранее присутствует гниющее вещество, что оно само по себе все равно будет развиваться и ничего с этим не поделаешь.
А тут еще подоспела теория «клеточной патологии» Вирхова, ставшая в скором времени господствующей в медицине.
В своей статье «Целлюлярная патология», вышедшей в 1855 году, немецкий ученый Вирхов, одним из первых введший в практику медицины микроскоп и старавшийся как можно глубже проникнуть в сущность болезненных явлений, писал: «Для всякого живого существа клетка является последним морфологическим элементом, из которого исходит всякая жизненная деятельность, как нормальная, так и патологическая». «Ненормальная деятельность клеток является источником различных заболеваний». «Клетка является осязаемым субстратом патологической физиологии, краеугольным камнем в твердыне научной медицины».
Клетка — начало и конец, болезнь организма — болезнь клетки. Отчего нарушается деятельность клетки, Вирхов, правда, не говорил; но на робкие голоса, раздававшиеся то тут, то там, о мельчайших живых существах, которые внедряются извне и приносят с собой болезнь, не желал обращать внимания. Даже в тех случаях, когда в больных органах он наталкивался на микроскопические организмы, он считал, что они появились уже после и в результате болезни клетки.
Вирховская теория победоносно шагала по науке, завоевывала себе огромное количество приверженцев и потому, что была, в общем прогрессивной по сравнению с господствующей до нее гуморальной теорией и по своей заманчивой простоте и убедительности.
Голоса ученых, пытавшихся хоть что-нибудь поставить в ней под сомнение, тонули в хоре восхвалений клеточной патологии и почти не имели сторонников.
Между тем никакая клеточная патология, никакие химические контакты Либиха не могли ни объяснить причины массовой гибели раненых в госпиталях, ни, тем более, помочь бороться с нею.
Во время Крымской войны из Французской армии в 300000 человек было убито 3,3 процента, от болезней же и от последствий ранений погибло 27,6 процента, то есть более четверти всей армии. При ампутации бедра оставалось в живых всего 8 процентов. Гнойное заражение развивалось почти во всех перевязочных пунктах. В русской армии за три года боев от болезней и ран погибло в двадцать раз больше людей, чем было убито на поле боя. Казалось, хирургия изжила себя, из спасительницы превратилась в губительницу. Даже оставленные без операции раненые, не попадавшие в госпиталь, чаще выживали и выздоравливали, чем те, к кому прикасались руки хирургов.
В английском городе Глазго молодой хирург Джозеф Листер упорно искал выхода из этого тупика.
В 1860 году он поступил в хирургическую клинику глазговского госпиталя. Клиника была построена там, где прежде находилось холерное кладбище; трупы погибших в эпидемию зарывались кое-как, совсем близко от поверхности земли. Испарения от разлагающихся трупов проникали в палаты. Вот почему в клинике не прекращалось рожистое воспаление, гангрена, нагноения. Это была сплошная эпидемия, и единственной возможностью спасения больных был перевод клиник в более здоровое место.
Так объясняли хирурги то, что тут происходило, когда Листер с расширенными от ужаса глазами знакомился с госпиталем.
Листер был умным, талантливым хирургом, и он очень любил человечество. Не мог он допустить, чтобы в доме, где должны возвращать здоровье, люди гибли в огромном количестве. И не верилось ему, что воздух кладбища вызывает все эти заражения. Листер стал лихорадочно читать литературу — нет ли где-нибудь хоть какого-либо просвета в этом темном царстве.

























