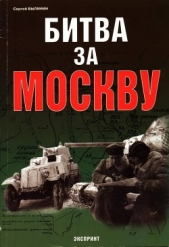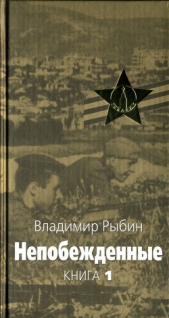Ближние подступы

Ближние подступы читать книгу онлайн
Аннотация издательства: Е. Ржевская — автор известных книг: «Берлин, май 1945», «Февраль — кривые дороги», «Была война…». Ее новая книга «Ближние подступы» в основе своей автобиографична. Составляющие ее повести и рассказы написаны по мотивам лично пережитого. Е. Ржевская была на фронте переводчиком, прошла с армией весь путь до Берлина. Первый раздел книги посвящен военной поре.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы вошли в кафе "Звездочка". Оно переоборудовано к юбилею из столовой № 10, где, по словам корреспондента из ФРГ, его угощал "феодальным" ужином бывший партизан. Старый гардеробщик с веселой обходительностью принял у нас пальто и шапки. Мы сели за столик у окна, задрапированного сверкающим белизной новым тюлем. В обеденное меню можно было и не заглядывать — здесь принимали гостей города как могли хорошо. Земсков заказал вино, молча разлил.
— За встречу, — сказала я неуверенно.
— Выходит так.
Он был напряжен. На его лбу оставался рубец от шапки. Лоб набряк от напряжения, оттянув валики надглазий, и серые глаза открылись, смотрели на меня прямо и отчужденно.
— Я тогда ждал вас, — четко сказал он. — Сколько только мог. Уже, помню, смеркаться стало. Мне пора было обратно в медсанбат, я еще тогда ведь залечивал ногу. Вас все не было. Я изложил то, что считал своим долгом, на листке, что вы мне дали. Мне оставалось отнести его Калашникову…
Я почувствовала, как память моя тяжелеет, опускается вглубь, туда, где, оседая, маются, затаившись, вины. И этот белый тюль на окнах, как в доме бургомистра.
— Я, Георгий Иванович, не смогла вернуться… Приказ был сняться, и даже не было возможности добежать обратно, сказать…
Ах, не был он ни гибок, ни изощрен, ни эластичен, и все, что жизнь причиняла ему, не во взвеси, не в обрывках бродило в нем — срасталось с ним капитально.
— Борщ стынет.
Он не обратил внимания. О чем-то задумался. Заговорил не спеша:
— Когда ото Ржева ехали мы на Подольск, заночевали у старушки. Она обрадовалась, что мы у нее. Рада, что пришли свои войска. — Видно, это сбереженное воспоминание согревало, и лицо его помягчело. — Мы не открываемся, что мы пока на проверке. "Что мне с обувью делать?" — полный подпол у нее немецких <183> сапог и ботинок. Свои пришли, и она рада все отдать, что сохранилось у ней.
— Это вас-то на проверку?
— И к лучшему. Там разом разобрались и на фронт меня вернули. А с Калашниковым понять друг друга трудно.
Мне вспомнился Калашников. Внушительного роста, рыхлые округлые плечи, верткая жидкая шея. Лицо не злое, неприметное, беспечальное.
— Так что же Калашников?
Земсков доел остывший борщ, поднял темную, не поддавшуюся седине голову.
— Бывают такого кроткого ума люди, — с великодушием натуры крупной, неподточенной сказал Земсков.
"Вы были членом партии?"
"Да. В первые же дни войны я вступил кандидатомю Я считал себя обязанным к этим действиям…"
Глаза Калашникова, легкие, безмускульные, замирают, не пытливый — стоячий взгляд. Заминка.
"И где же ваш партбилет?"
"Я говорил: он был в кармане гимнастерки. Я ее снял, когда мы переплывали, чтоб не замочить документы. Посреди реки завертело, когда немцы накрыли нас огнем, — гимнастерка утонула…"
В плен попал не раненым, в сознании. А не отстреливался, не покончил с собой. Был безоружный? Пистолет тоже утонул? Одно к одному.
В таких невыгодных обстоятельствах своим "кротким" — недалеким — умом Калашников разбирался проворнее.
Война много чего ему доверила — не по его скудному духу. Но он не отягощен ответственностью. А сердце сослепа ничего не подсказывало о человеке.
Но вот ведь что-то Земсков организовывал в лагере, возглавлял. А поручал кто ему?. Никто. Он ведь то в плен, а то — в герои. Самозванцем. Да в чудном пальто, без шинели, без оружия…
Много кое-чего непонятного, досель неизвестного притянула за собой здешняя победа. Еще не все обмозговано кем надо, и не постичь самому. Довоенный опыт <184> газетного репортера ему не в помощь. Калашников нуждается понизить, умалить Земскова — тогда и понятнее, и охватнее, и заминки нет. Его глаза оживают, круглеют, действуют, лихорадят тщеславием власти. И искренним любопытством.
"Только четыре раза порезали немецкую связь? А ведь вы больше чем четыре раза выходили из лагеря без конвоя".
А у Земскова и по сей день в его сильном лице, в серых глазах детское упрямство бесхитростности. И от недоверия замкнется. Ведь ощущал себя, что скрывать, героем. А вслух только одно:
"Так что же, не приходится мне дальше служить?"
"Как знать…"
И ведь не то чтобы злой человек, а потерзать может, ни света, ни тепла в сердце, и пристегнется через всю жизнь по пятам за Земсковым, как ходит кривда за правдой. Но об этом еще впереди.
К нашему столику подсел человек с очень прямой спиной и с праздно-печальным лицом, корректно одетый — в черном костюме, с белой манишкой. Когда-то он был помначштаба полка по связи, и хотя принял почетное приглашение прибыть на юбилей, но сам, видно, не настолько был привержен памяти о войне, чтобы томиться без дела уже третьи сутки. Он вдруг смущенно и самолюбиво покраснел, почувствовав, что помешал нам, и, пружиня пальцами о крышку стола, легко оттолкнувшись, поднялся и стоя еще долго, настойчиво приглашал нас приехать в Псков, где под его началом облэнерго, суля свозить в сохранившиеся пещеры с настоящими живыми монахами. Закурил, оглядывая зал: два генерала и другие незнакомые ему люди, прибывшие на празднество, сидели за соседними столиками. Он отошел в поисках свободного места.
— Вы о Курганове спрашивали, — заговорил Георгий Иванович. — Последний раз я его видел, когда были на. проверке в штабе фронта в Подольске. Мы с ним в приемной ожидали вызова на разговор, или, если хотите, на допрос все же. Курганов очень изменился, сидел с лицом убитым, почерневшим, да и маялся, должно быть, как <185> человек, повседневно до того пьющий. Он был подавлен. И, согласитесь, было с чего. Полицай лагерный… Но он сказал мне тогда с запальчивостью: "Мы свое задание выполнили. Наша совесть чиста". Я промолчал. Что он имел в виду, говоря так о себе, я не знал. Совесть моя не была запятнана. Но задание я не получал. А о его задании мне неизвестно было.
Время от времени подходила крепкая, коренастая официантка в накрахмаленной кружевной наколке на голове по случаю праздника, суматошно шмыгая бровями, ощупывая всей кожей темени, не сползла ли наколка, что-то ставила на стол, уносила тарелки.
Никто больше не мешал, не подсаживался, видели — людям надо дать поговорить.
Земсков откинулся на спинку стула, лоб его разгладился. Нет, ничего не пролегло между тем и этим Земсковым, кроме череды лет с их внешними приметами. А с годами ему идет и широкая грудь и даже тучность, они как бы под стать его человеческой весомости. Говорил он с небольшой одышкой. О лагере военнопленных тут, в Ржеве, о страданиях истязаемых людей.
— Человек от голода перестает понимать окружающее… Его существование для него незаметно. Теряет себя…
Большего не сказал из душевного целомудрия.
— Вот хоть и сколько лет прошло… А все об этом… — наклонившись над столом, с доверием взглянул открывшимися серыми глазами. — Трудно откопнуть от себя…
Мы помолчали, и так, будто у нас был навык молчания вместе. Таящееся в нас прошлое окрепло.
Но есть же край, есть же немощь человеческая, и вот есть же что-то высшее, что светит, одолевая мрак и в земном аду, в невыносимой скорби.
Ох, капитан Калашников, капитан Калашников, такое непоштучно — сколько раз порезаны телефонные провода немцев? — это непрактичный дух человеческий поднимался в немыслимых обстоятельствах, в смертной обреченности плоти и перед лицом непреодолимого.
— Вы о чем? — бережно спросил Георгий Иванович, нарушая тишину нашего молчания.
— Вспомнила, как увидела вас.
Он шел прихрамывая, в длиннополом темном пальто. Пустынной улицей, по черному снегу; было в нем что-то апостольское… <186>
2
— Тогдашним начальником полиции был по лагерному прозвищу Борзой. Это был не человек — злой пес, зверь. Он издевался над пленными. Смерть его не миновала: немцы похоронили его на территории лагеря с почестями в отдельную могилу и березовый крест ему поставили. А на второй день немцы обнаружили на кресте приклеенный листок — это наша подпольная организация ему наклеила проклинание: